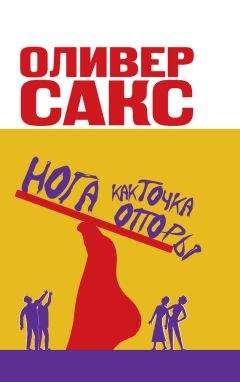В то время как классическая неврология сохраняла и продолжает сохранять свою важность и остается незаменимой для изучения «низших» функций, постепенно становилось ясно, что требуется новый подход, новая наука. Эта потребность достигла кризиса во время Второй мировой войны. Новая наука нейропсихология, предзнаменования которой появились в 1930-е годы, достигла совершеннолетия в Советской России и особенно в трудах Лурия (Р.А. и А.Р — отца и сына), Леонтьева, Бернштейна и других. Во время Первой мировой войны немногое делалось — и могло быть сделано — для пациентов с неврологическими повреждениями. Они получали физиотерапевтические процедуры в надежде, что время и природа придут на помощь. К появлению нейропсихологии во время Второй мировой войны привел спрос на нейротерапию; родились концепции, выходившие за рамки функции. Было обнаружено, что больные с поражениями мозга и иными неврологическими поражениями испытывают странные трудности в деятельности. Нейропсихология имела целью стать наукой, изучающей действие, и ее центральной концепцией стала не функция, а «функциональная система» и «производительность».
Классическая неврология была по сути статичной: ее моделью была модель фиксированных центров и функций. Нейропсихология же, с другой стороны, по сути динамична: она рассматривает бесчисленные системы в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии. «Организм — единая система», — писал Лурия, и это и есть кредо нейропсихологии. Картина, которая возникла, была картиной великолепной, саморегулирующейся динамичной машины, и ее величайший теоретик, Н.А. Бернштейн, является истинным основателем кибернетики — за пятнадцать лет до Нормана Винера.
Эта великолепная машина обладает «программами», «энграммами», «внутренними образами», «схемами» — способами действия, процедурами, которые можно анализировать и которыми можно в определенной мере управлять. Там, где классическая неврология довольно беспомощно говорит о снижении функции, нейропсихология более конструктивно выявляет пораженную систему или взаимодействие систем и пытается добиться реабилитации благодаря развитию новой системы или системы систем, что становится возможно благодаря свободе, пластичности нервной системы. Силы теории и практики с этой точки зрения делаются огромными. И тем не менее, как это ни удивительно, они остаются почти нереализованными на Западе.
Революционной книгой, которую я мельком упомянул, является «Восстановление движения. Исследование функции руки после ранения» А.Н. Леонтьева и А. В. Запорожца. Я ни разу не встречал коллег, которые бы ее читали, хотя в 1948 году она вышла в английском переводе. В ней описывается синдром, сходный с моим собственным, у 200 солдат с хирургически излеченными поражениями руки. Несмотря на анатомическую и неврологическую целостность, по крайней мере в терминах классической неврологии, в каждом случае имели место глубокое расстройство и неработоспособность. Излеченные руки оставались бесполезными и ощущались как чужие их владельцами, подобно предметам или «поддельным рукам», прикрепленным к запястьям. Леонтьев и Запорожец говорили о «внутренней ампутации», связанной с «диссоциацией гностической системы», нормально контролирующей руку и подтверждающей ее наличие, как следствии инактивации в силу ранения и операции. Цель терапии, таким образом, — вызвать реинтеграцию «расколотых» гностических систем. Как это делается? Благодаря использованию рук. Однако это не может быть сделано прямо или целенаправленно (иначе диссоциация вообще не развилась бы). Команды произвести движение бессмысленны, они не работают. Что нужно, так это придумать какой-то «фокус» — например, занять пациента сложной деятельностью, в которую неумышленно вовлекается рука. Отчужденную часть, так сказать, обманом заставляют действовать, сделав участницей сложной деятельности. В тот момент, когда такое случается, — а обычно это происходит внезапно, — ощущение нереальности, отчуждения исчезает, и рука неожиданно начинает чувствовать себя живой, больше не довеском, а частью человека.
Все это очень похоже на то, что случилось со мной, на то, что происходит с моими пациентами и чего я стараюсь от них добиться. Правильность подобных нейропсихологических процедур доказывается тем, что они так хорошо работают. И тем не менее нужно все время задумываться о том, адекватны ли концепции и не срабатывают ли процедуры потому, что выходят за пределы концепций.
Как когда Хэд изредка забывается и без комментариев описывает опыт некоторых своих пациентов — что они ощущают свои ноги как пробковые или что они состоят только из головы и плеч, — так и наиболее красочные части книги Леонтьева и Запорожца описывают реальный опыт: руки, ощущаемые как «чужие», «мертвые», «нереальные», «прикрепленные». Анализ, формулировки значительно менее убедительны. В книге имеется странная двойственность, несоответствие: формулировки механистичны, аналитичны, кибернетичны, используют исключительно термин «системы», в то время как описываемые ощущения и действия пациентов касаются Эго, личности. Если рука «чужая», то она «чужая» для вас; если что-то делается, это делаете вы. Но «вы» или «я», формально присутствующие имплицитно, эксплицитно отрицаются или отвергаются. Отсюда странное двоякомыслие книги, странное двоякомыслие нейропсихологии в целом.
«Организм — единая система», но какое отношение система имеет к реальной живой личности? Нейропсихология говорит о внутренних образах, схемах, программах и т.д., но пациенты говорят об опыте, ощущениях, желаниях, действиях. Нейропсихология динамична, но все еще схематична, в то время как живые существа — это свободные личности. Это обстоятельство не отрицает того, что системы вовлечены, но свидетельствует о том, что системы коренятся в личности и нередко управляются ею.
Нейропсихология, как и классическая неврология, стремится быть совершенно объективной, и именно отсюда исходит ее великая сила, ее прогресс. Однако главной особенностью живого существа, и человека в особенности, является активность субъекта, а не объекта, а как раз субъект, живое «я», и оказывается исключен. Нет сомнения, что Лурия сам это чувствовал, — это заметно по всем его работам, но особенно — по работам последних лет. Он был вынужден, как он однажды написал мне, создавать два сорта книг — «систематические» (например, «Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга») и те, что он любил называть неврологическими биографиями или романами, в центре которых страдающее, действующее «я» («Потерянный и возвращенный мир», «Маленькая книжка о большой памяти»). Его ранние работы всецело объективны, однако под конец жизни он, не жертвуя объективностью и точностью, все более сосредоточивался на субъекте. Он чувствовал, что это самое главное, что врач должен полностью погрузиться в действительные ощущения пациента, выйти за границы чисто «ветеринарного» подхода.