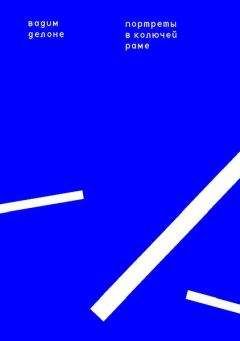Иван попросил подарить ему на прощание стихи.
– Про любовь, – говорил он рассудительно, – мне не надо, меня и так бабы любят, да к тому же я женат. Что ж я, жене, что ли, стихи читать буду. Это как-то неловко, еще решит, что я одурел в лагере, свихнулся. Ты мне лучше про коммунистов что-нибудь напиши. Я ведь так им, дурак деревенский, верил. Ну теперь-то насмотрелся.
Я вспомнил какие-то старые строки, первый опыт в публицистике:
Пусть каналии рвут камелии,
И в канаве мы переспим.
Наши песенки не допели мы —
Из Лефортова прохрипим.
Хочешь хохмочку – пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом черту продали
За уродливый мавзолей.
Только дудочки, бесы властные,
Нас, юродивых, не возьмешь,
Мы не белые, но не красные —
Нас салютами не собьешь.
С толку, стало быть… Сталин – отче ваш.
Эх, по матери ваших бать.
Старой песенкой бросьте потчевать —
Нас приходится принимать.
Три дороженьки. Дар от Господа
В ноги идолам положи.
Тридцать грошиков вместо Посоха
Пропиваючи, не тужи.
А вторая-то прямо с выбором —
Тут и лагерь есть, и тюрьма,
И психушечка – тоже выгода
На казенные на хлеба.
Ну, а третья-то… Долей горек тот,
Если в этот путь занесло, —
Мы б повесились, только толку что,
И невесело, и грешно.
Изготовлял я этот прощальный подарок для бугра Ивана в комнате при тепляке, где была оборудована мастерская. Простым смертным вход туда был запрещен – отлеживались там блатные и бригадиры варили чай. Дверь отворилась, и в мастерскую ворвался лейтенант Лиза с надзирателем Верхонкой. Кто-то из своих ловко исхитрился перехватить исписанный мною листок и мгновенно пристроил его под отходами производства. Но Верхонка мог соперничать с самим Лашиным в смысле въедливости. Обыск был его тайной страстью, и в этом деле он действительно был филигранным специалистом. За то его и называли Верхонкой, что он умел все загрести в свою лапу (а верхонка – это брезентовая штуковина вроде рукавицы).
Верхонка быстро разыскал листок. Сразу же меня отвели на вахту и направили в карцер.
Жаркое тюменское лето пролетело за два месяца, началась легкая сибирская осень, что в западных странах именуется холодной зимой. Шнырь Яшка, конечно, следовал приказу и карцер не топил. Стекла были выбиты, а решетка тепло не сохраняет. «Странно, – размышлял я, – неужели лейтенант Лиза выследил меня и отомстил за беседу о Бёлле?» Правда, шнырь Яшка явно воспринял мое заявление о том, что малолетки собирались ему «отгрызть уши» и что я их, якобы, удержал. Яшка был вполне корректен. Даже в карцере заставляли работать: всучивали какие-то ржавые прутья, которые требовалось очищать наждачной бумагой. За отказ от этого мероприятия лишали и без того пониженного питания. Нары пристегивались к стене замком от шести утра до десяти вечера. Стула, разумеется, не было, оставался только цементный пол. И в баню не выводили. Уже на третий день тело покрывалось нарывами. Я никогда не думал, что холод – такая страшная пытка. Холод – это и бессонница. Инстинкт жизни заставляет человека метаться из угла в угол камеры, два на три метра. Яшка помогал, как мог. Он выдавал мне предназначенные для зачистки прутья. Я ничего не делал, но когда Яшка сдавал готовую продукцию, оказывалось почему-то, что я свою норму выполнил. Как уж он исхитрялся это устроить, не знаю. Через дня четыре ко мне в камеру подбросили Макара. Макар был из друзей Конопатого, но любой душе обрадуешься в карцере. Был он в законе, но как-то не в особом почете у блатных. Сидел за десять убийств, и не расстреляли его только потому, что убивал он, будучи несовершеннолетним. Парень он был какой-то безалаберный и расхлябанный. И несмотря на гигантский рост и могучее телосложение, вечно попадал впросак, даже за самого себя постоять толком не умел. Зато в камере карцера он был человеком незаменимым, бесстрашно перекрикивался с камерами барака усиленного режима – БУРом, требовал от них махорки. В нашу камеру бросали «коня» – веревку, которую мастерили из последней оставшейся на теле робы. Мы ловили конец веревки часами и получали подогрев в виде махорки, тщательно упакованной в тряпочку.
– Смотри, с политиком делись! – орали блатные.
Макар и так бы делился, без указаний, был он парнем довольно-таки добродушным.
– Слушай, Макар, – сказал я, – одна коммунистическая блядь Долорес Ибаррури объявила, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. К условиям нашего социалистического карцера это изречение явно не подходит. Я выдвигаю новый тезис: «Лучше умереть лежа, чем стоять по струнке». Макар, мне говорили, что ты умелец. Можешь сделать отмычку?
Макар принялся за работу, и через час изготовленной отмычкой мы открыли замок, которым нары пристегивались к стене. «Восстание» в карцере администрацией было отмечено. Явились офицеры и вынесли постановление лишить нас на год вперед права на закупки в лагерном ларьке (семь рублей в месяц). Ни на меня, ни на Макара эта драконовская мера не произвела впечатления. «Все равно за что-нибудь лишат, – размышлял Макар, – а так хоть не на бетоне полежим, а на нарах. Они же не имеют права нам прутья железные не выдавать, у них же план. А нам их план на сей раз на руку. Я уже наловчился, за пять минут могу любую отмычку сделать. Да и Яшка тебя отчего-то боится, вон в камеру три раза кипяток носит. С тобой сидеть в карцере – одна благодать. Человеком себя чувствуешь».
– Макар, – спросил я, – а зачем ты десять человек угробил?
– Я-то, – замялся он и долго подбирал ответ, – от скуки.
– То есть как это так?
– А так. У нас в глухомани не то что голоса из Америки не услышишь, но и вообще ничего не достать. Не ходить же на танцы под советские песни, – под эти песни не поймешь, как и двигаться. Паренек у нас один был в поселке, сын райкомовской шишки, на мотоцикле катался «Ява», девочек на заднем сиденье возил, ну а нас грязью облепливал. Мы его как-то встретили у оврага, отдавай, говорим, твой самокат, а он в крик: «Всех пересажаю! Я вас к ногтю прижму!» Пришлось прирезать. Но и с мотоциклом тоже глупость – мотоцикл-то у него один на весь поселок был. Кто же на нем кататься поедет, сразу же заберут и обвинят по всем статьям. Решили, уж раз пропадать, так с кипешем, шум то есть устроить. Встретили участкового милиционера, отобрали пистолет и прихлопнули его. А на клубе городском вывесили объявление, дескать, имеем в виду террор – кто подойдет близко к оврагу, – всем смерть! Ну и шумиха поднялась! С пулеметами окружали, а у нас всего-то один патронташ, тот, что у мента забрали. Ну на десять человек пуль хватило. Троих из наших пристрелили, а я вон с тобой сижу.