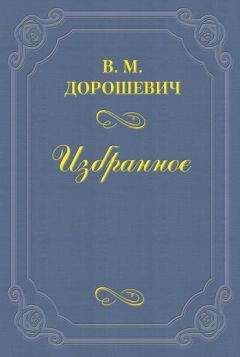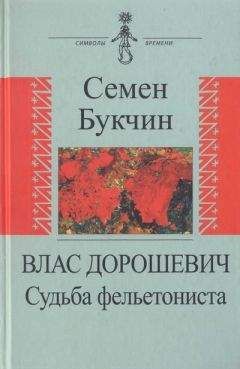Ознакомительная версия.
И Шаляпин едет гастролировать в Милан при условиях, совершенно исключительных.
«Скала» – оригинальный театр с оригинальными традициями.
По правилам театра, после каждого сезона все декорации обязательно уничтожаются. И на каждый новый сезон все декорации пишутся новые.
Даже для одной и той же оперы.
В прошлом году шёл «Фауст», в этом году идёт «Фауст».
Но все прошлогодние декорации должны быть уничтожены и написаны новые.
Это делается для поощрения художников-декораторов.
Но «Скала» – театр рутинный, с прочно, раз и навсегда установившимися традициями.
По традиции, новые декорации должны быть написаны точка в точку так, как старые.
Поощряются художники, но не поощряется искусство.
Искусство идёт вперёд, но оно проходит мимо театра, где всё застыло, закаменело, остановилось.
Маргарита там продолжает жить в том же самом английском коттедже, в котором жила 20 лет тому назад, а Мефистофель появляется из того же самого трапа, из которого появлялся на первом представлении.
Постоянный ход в ад!
Во главе «Скала», однако, стоят, в отличие от некоторых других театров, люди, понимающие искусство.
Им не могло не броситься в глаза, что шаблонная, рутинная, мёртвая обстановка и такой оригинальный своеобразный, живой артист, как Шаляпин, – являются диссонансом.
Шаляпин не только превосходный певец и удивительный актёр, – в нём сидит ещё живописец и скульптор.
Он лепит из своего тела. Обдумывая роль, он рисует себя на фоне декораций.
Он не представляет себя иначе, как в полной гармонии со всею обстановкой, с игрой других действующих лиц.
И дирекция «Скала» решила показать Шаляпина в такой обстановке, какая ему нужна.
Пусть вся обстановка гармонирует с его замыслом.
Декорации для «Фауста» будут написаны по рисункам Коровина, которые вышлет Шаляпин.
Костюмы сделаны по тем рисункам, которые пришлёт Шаляпин.
Шаляпин не только поёт Мефистофеля. Он ставит «Фауста».
И на этот раз сможет осуществить мечту своей артистической жизни.
Дать тот образ Мефистофеля, который стоит у него перед глазами.
Шаляпин – это Фауст.
За ним неотступно следует по пятам Мефистофель. Мефистофель не оставляет его ни на минуту, Мефистофель, это – не только его любимая роль. Это почти его мучение. Его кошмар.
В первый раз Мефистофель явился к нему когда-то давным-давно в самом начале карьеры.
К Фаусту он явился в костюме странствующего схоластика.
К Шаляпину в костюме артиста странствующей труппы.
Забавно смотреть теперь на тогдашний портрет Шаляпина в роли Мефистофеля.
Традиционная «козлиная бородка». Усы – штопором. Франт. Если к этому прибавить ещё широкое в складках и морщинах трико, – получается совсем прелесть.
Обычный Мефистофель, грызущий сталь в сцене с крестами, – обычной странствующей оперной труппы.
Но рос и становился глубже артист, рос и глубже становился его Мефистофель.
Каждый спектакль он вносит что-нибудь новое, продуманное и прочувствованное в эту роль.
Каждый спектакль к Мефистофелю прибавляется новый штрих.
Мефистофель растёт, как растёт Шаляпин.
И вся артистическая карьера Шаляпина, это – работа над Мефистофелем.
Сколько работает Шаляпин?
Публика любит думать, что её любимцы не работают совсем.
– Вышел и поёт.
Как богу на душу положит. И выходит хорошо.
– Потому – талант!
Шаляпин работает только столько часов, сколько он не спит.
За обедом, ужином, в дружеской беседе он охотнее всего говорит, спорит о своих ролях. И из ролей охотнее всего о своём кошмаре – Мефистофеле.
Только «Демон», главным образом за последний год, немного сжалился над ним и отвлёк его от своего коллеги.
Как часто друзья просиживали с Шаляпиным ночи напролёт где-нибудь в ресторане, не замечая, как летит время.
Публика заглядывала.
– Шаляпин кутит!
На завтра рассказывали:
– Кутил ночь напролёт!
И ночь, действительно, проходила напролёт.
«Светлела даль, перед зарёю новой ночная мгла с неба сходила, и день плёлся своей чредой».
А забытая, давно уж переставшая шипеть, бутылка выдыхалась и теплела.
Ночь проходила в разговорах, спорах не о ролях, о художественных образах.
Часы за часами улетали в рассказах Шаляпина, как он представляет себе Мефистофеля, как надо спеть ту, эту фразу, каким жестом, где что подчеркнуть.
Я не знаю артиста, который бы работал больше, чем этот баловень природы и судьбы.
У него нет свободного времени. Потому что всё своё «свободное время» он занят самой важной работой: думает о своих художественных творениях.
И среди них первый – Мефистофель.
Так, как сейчас его играет и поёт Шаляпин, – для него, взыскательного артиста, – почти законченный образ.
В Милане, где ему предоставлена полная возможность показать своего «мучителя» в той обстановке, В которой Мефистофель стоит перед его глазами, Шаляпин, наконец, сыграет, споёт, нарисует, вылепит того Мефистофеля, каким тот рисуется ему.
Каким выносил его в своём уме, в своей творческой фантазии, в своей душе художника.
И, глядя на Шаляпина, думалось, что эти его гастроли в Милане впишут новую, блестящую, победную страницу в летописи русского искусства.
Безлунная ночь. Сумрачный предрассветный час. Сквозь лёгкую дымку тумана светятся снежные вершины горного хребта. Светятся тускло, уныло, как светится снег сам от себя в безлунные ночи.
На тёмной скале мерещится огромная фигура. Одна рука протянута по скале. Другая, жестом, полным муки, закинута за голову.
Словно прикованный Прометей.
Фигура неподвижна.
С неба, с земли доносятся, перекликаются голоса, то испуганные, то радостные.
И в позе, полной отчаяния, тоски и муки, внимает им чёрный призрак, прикованный к скале.
Но вот по нему мелькнул луч света.
Синеватого, холодного, жуткого. Таким зловещим кажется лунный свет ночью на кладбище.
Словно луч лунного света, украденный с кладбища.
Измученное, исхудалое лицо. С прекрасными чертами. С гордым профилем. Глубоко ввалившиеся и горящие глаза. Как змеи, вьются брови. Чёрные, как смоль, волосы беспорядочными кудрями падают на плечи.
От рук, голых, мускулистых, железных, веет мощью и силой.
Его истрепали ураганы там, на вершинах диких скал.
Чёрный флёр его одежды лохмотьями висит на нём. И из-под этих обрывков одежды падшего ангела, – на лунном свете тускло светится при лунном блеске золотой панцирь прежнего архангела.
От всей фигуры веет могуществом, и на лице написано мученье.
Раздаётся могучий голос.
И провозглашает проклятие миру.
– Проклятый мир!
Вы помните скучающего Демона, каким видели его десятки раз, лежащего на скале, усталого, унылого и разочарованного.
Вы входили в его положение:
– Бедный Онегин!
Так молод и так уже разочарован!
И вдруг вы слышите не скуку, а трагическую тоску. Не разочарование, а отчаяние.
Шаляпин искал этих звуков тоски и отчаяния, от которых веяло бы ужасом, – ещё в «Манфреде». И нашёл их теперь, в «Демоне».
И от каждой позы, и от каждого жеста веет мощью, презрением и страшной мукой.
Звуки, пластика, взгляд – всё слилось в одну симфонию отчаяния, ненависти и страданий.
Эта протянутая могучая рука с искривлёнными пальцами. Словно Демон хочет поднять весь мир и посмотреть на него ещё раз с мучительным вопросом:
– Чем он хорош?
И видит его, и бескровные губы сложились в гримасу презрения и злобы.
Вы в первый раз слышали и видели в «Демоне» пролог.
Оказалось, – через 20 лет, – что это сцена, полная силы, красоты, выразительности.
И что в звуках пролога рисуется действительно, титанический образ.
В споре с ангелом, в могучих и страстных захватывающих звуках, вы в первый раз услыхали сатанинскую, – настоящую сатанинскую, гордость. Купленную ценою страданий. Это слышится в голосе.
Мираж растаял. Залитая розоватыми лучами заходящего солнца картина Грузии.
Вдали широкое каменистое ложе, по которому, словно небрежно брошенная лента, бесчисленными изгибами вьётся Арагва.
Угловая башня. Полустёртые ступени лестницы, вырубленной в скале.
И когда Тамара смеётся своими звонкими, резвыми трелями, – словно сливаясь со скалой, освещённый своим мертвенным светом, огромными горящими глазами на бледном, измученном лице смотрит на неё Демон.
И в этом безмолвном взгляде была такая музыка, читалась такая поэма, что театр замер. Лермонтовский, настоящий, лермонтовский Демон впервые вставал на сцене во всей красоте и во всём ужасе своих мучений.
Но приближался страшный момент.
Артист пел больной. Он кашлял.
Приближалось:
– И будешь ты царицей мира.
Всякий знает, что в Демоне «главное»: «И будешь ты царицей мира».
– Это надо взять-с!
Если б Шаляпин сорвался с басовой партии, – всякий сказал бы:
Ознакомительная версия.