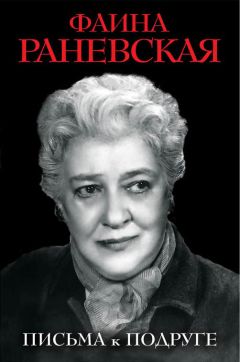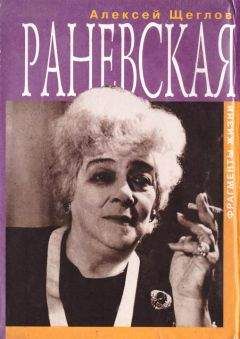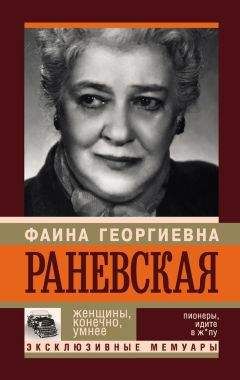Видимо, будучи некрасивой, но удивительно обаятельной и невероятно талантливой, она всегда уважала красивых людей, красивых женщин, красивых актеров.
Я поцеловал ей ручку, мы расцеловались. Вот такая была у меня встреча – «Встреча на Эльбе».
Наталья Защипина
Самая маленькая обида
Фрау Вурст. Все меня обманули, все! Меня обманул мой фюрер – раз. Обманули англичане – подсунули мне неполноценную сироту – два. Обманули американцы – три. Ты меня обманываешь – четыре! Ирма, поставь мою любимую пластинку – музыка успокаивает мне нервы…
К/ф «У них есть Родина»
Второй раз с Раневской мы встретились на съемках фильма «У них есть Родина».[7] Эти съемки я запомнила на всю жизнь. Действие фильма происходит сразу же после Второй мировой войны. Речь в нем идет о репатриации детей, угнанных немцами из России. После окончания войны советский офицер, его играл прекрасный артист Павел Кадочников, приезжает в Германию забирать этих детей обратно. Одну такую девочку, мою героиню, по-немецки Ирму, а по-русски Иру Соколову, он находит в кабаке, где та прислуживала у фрау Вурст, роль которой и играла Фаина Георгиевна Раневская.
Там была такая сцена. Кадочников входит и говорит: «Ира, Ирочка, я приехал, чтобы забрать тебя домой», и я тогда подбегаю, кидаюсь ему на грудь и плачу. Идет съемка. Режиссер командует: «Мотор!» Я кидаюсь к Кадочникову на грудь и начинаю по-настоящему рыдать. И Кадочников… тоже плачет! А у него как у советского офицера должны были только навернуться слезы. Об этом даже речи не могло быть – советские офицеры не плачут! Ему режиссер говорит: «Не положено». А он отвечает, что, мол, так трогательно девочка плачет, просто не могу удержаться, уж извините. Снимаем второй дубль. Он плачет. Третий – плачет. А у меня, как назло, больше нет слез. Я ведь не профессиональная актриса, у которой есть техника. Мне-то всего 11 лет тогда было, совсем ребенок. Три дубля проплакала, чем дальше-то плакать? И снова мотор. У Кадочникова наконец вроде бы все получается, а я плакать уже не могу. Не могу, и все тут.
А Фаина Георгиевна присутствовала на съемке. Она сидела тут же, потому что в конце этой сцены был ее выход. И вдруг она мне говорит: «А ну-ка иди сюда». Я подхожу. Она ставит меня между коленями, лицом к себе, и дает пощечину, такую звонкую, сильную! Я от обиды, от ужаса начинаю рыдать. Режиссер командует: «Мотор! Съемка!» И я вся в слезах бегу на мизансцену. Кадочников еще не успел заплакать, у него только навернулись слезы, а я рыдаю в три раза громче, чем обычно. В общем, все получилось.
И после съемки Раневская сказала мне:
– Деточка, ты меня прости. Дело в том, что ты способная очень, и ты обязательно станешь актрисой, я это вижу, но запомни: это очень тяжелая профессия. И то, что я с тобой сегодня сделала, считай самая маленькая обида из тех, которые ждут тебя на этом пути, потому что актерская профессия – это растоптанное самолюбие.
Она оказалась права. Актеру, помимо таланта, нужно иметь еще и железный характер.
Наталья Трауберг
Не комильфо
− Леонид Трауберг – это ваш отец?
− Да.
− Надо же, как интересно.
− Что же тут интересного?
Из интервью с Н. Трауберг
Я выросла в киношной среде. Мой отец кинорежиссер. Это не так интересно, как кажется. Я не хочу быть невежливой, но я очень не любила эту среду. Поэтому это никак не предмет моей гордости, а предмет, скорее, смущения.
Были такие режиссеры в 1920-х − 1930-х годах Григорий Козинцев и Леонид Трауберг. Папа ставил картины, но если эксцентрические фильмы, скажем «Новый Вавилон», я считаю интересными, то восхваление революции в трилогии о Максиме не кажется мне интересным. Но они, видимо, в 20-х годах в это верили. В 20-х верили, в 30-х, думаю, уже нет, в 40-х точно нет. Превознесение люмпена в виде Максима и полная сказка о том, что именно такие вот простодушные, добрые существа сделали этот кошмар, − все-таки не очень хорошо. Но мой отец с Г. Козинцевым попали в эту ловушку. Сперва обрадовались, что можно всякие эксцентрические штуки делать, а потом… В основном они играли, как очень молодые люди, дорвавшиеся до игр. Но тогда всё уже шло хуже и хуже, суше и суше. Им запрещали, но они старались как могли. Видит Бог. Они были парой с Козинцевым, пока их не разлучили. Это случилось, когда они поставили картину «Простые люди», подхалимскую до умопомрачения. Но ее, тем не менее, обругали в Постановлении о картине «Большая жизнь».[8] Там, помимо всего прочего, упоминались «Простые люди». Их запретили, их разделили: папе дали картину «Попов», про то, что Попов изобрел радио, а Козинцеву − то ли «Белинский», то ли «Пирогов». Уже по чужим сценариям. Но отец стал космополитом раньше, чем окончил этого «Попова», и у него картину отняли. Козинцев же космополитом не был.
Космополитов ругали, их выгоняли с работы, клеймили в газетах, всячески не давали работать. Козинцев вскорости стал ставить «Гамлета». А отец, когда пришел в себя и время уже немножко переломилось, в основном преподавал на курсах – были такие сценарные и режиссерские курсы в 50-е − 70-е годы.
Фаина Георгиевна часто приходила к нам в гости, когда снималась в «Золушке». Наша семья жила близко от «Ленфильма».
Папа никак к ней не относился, она для него практически не существовала. Может быть, он и восхищался ее игрой, но я никогда ничего от него о ней не слышала. А мама с ней была после «Золушки» в приятельских отношениях. И даже так, как многие, очаровалась ею, потому что она очень очаровывала поначалу людей, но потом не пошло – маме все в ней не нравилось. Маме не нравилось, что она некрасивая, так сказать, ей нравились такие куколки, дамы очень воспитанные, очень «комильфовые». Главное – комильфо. Но уж последнее, что было в Фаине, – это комильфо. Поэтому она никак не подходила.
Они все – Гарин, Локшина, Раневская − ходили к Меркурьевым, потому что они очень дружили с Ириной Мейерхольд, женой Василия Меркурьева. И это была как бы память о Мейерхольде. Раневская к нему непосредственного отношения не имела, но она очень дружила с Гариным, а Гарин был его любимый актер и очень любил Ирину Всеволодовну. Я помню ее. Я у них не была, но я столько общалась с Гариными сама, очень с ними была близка, с Хесей Александровной и Эрастом Павловичем. Я всегда жила у них на Смоленском бульваре. И там тоже Фаину встречала потом, когда все закончилось и папе разрешили переехать в Москву в мае 1953 года. А до этого мы жили в одном доме, прежнем доме, на Большой Пушкарской. Раньше в Питере был сперва Дом киношников на Большой Пушкарской, и там жили Гарины. А потом они уехали в Москву, а мы остались.
У них был очень интересный, какой-то совсем другой дух, чем у нас дома, чем у Черкасовых. С ними дружила моя мама, она дружила с женой Николая – актрисой Ниной Черкасовой. Мама была жена режиссера, дама такая, и Нина тоже была дама. Обе вот такие очень модные дамы совсем в ином духе. Потому что ни Хеся Александровна, ни Фаина Георгиевна, они модными не были. И «наши дамы» за это их немножко презирали, что они не красотки, не такие какие-то:
– Их никто не любит. А у нас поклонники!
Да, мама была большая модница. И Нина Черкасова была модницей. И мама плакала, рыдала, кричала на меня целый день, что я не модница. Много было страданий по этому поводу. Но тогда еще были надежды, потому что я была очень молоденькой, еще все могло быть.
С Надеждой Кошеверовой мы тоже очень дружили. Надежда Николаевна была в другом духе. Она была дама, конечно, но «мужского» типа, умная, ну никак не «дамочка». И она очень любила Фаину Георгиевну. Почему потом разругались они, я не знаю. Там было несколько историй. Во-первых, на моих глазах разругались Гарины с Кошеверовой, вернее, не Гарины с Кошеверовой, а Хеся с Кошеверовой, – привыкайте, что среда искусств это вам не монастырь.
Надежда Кошеверова была первой женой Акимова. Причем, когда она влюбилась в Москвина, то в отличие от манер того времени, когда просто крутили романы, оставаясь с мужем, она очень захотела уйти к Москвину. Она очень его полюбила, видимо, себе на беду, потому что Москвин был человек замечательный, но трудный. Дома был трудный – такой топор висел. Он был мрачный, но порядочный человек и странный чрезвычайно. Но Акимов же остался с Кошеверовой невероятно дружен. Чуть что, он уже сидел там, на Петроградской. И женился он на Юнгер просто как-то вот так – была у него самая главная хорошенькая актриса в этот момент, когда Надя уходила, – он на ней и женился.
Юнгер довольно скоро его оставила и ушла к Калатозову, уехала с ним в Америку, когда он там был в 40-х нашим представителем. Уехала, вернулась, бросила Калатозова, ушла к Владимиру Николаевичу Орлову, а Акимов на это чихать хотел. Его семьей была Надя практически. А какие там были романчики у него или не были – он всё придумал, потому что был страшненький такой жучок, Царствие ему Небесное. Но он очень любил, чтобы о нем шла слава как о страшном бабнике. А у Елены Владимировны были всякие долгие романы. В том числе в нее вдруг влюбился Гарин на «Золушке». А он – человек серьезный и не бабник. Правда, пьющий очень. У него была дочь, случайная, с 30-х годов. Но он был очень привязан к Хесе Александровне и без нее совершенно не мог. Она ему как мама, как сестра, как опекунша, потому что сам он очень беспомощный человек и очень такой нежный. И он не собирался ее бросать даже ради Юнгер. Тем более для Юнгер это была ерунда какая-то – между Калатозовым и Орловым, – то ли она снизошла, то ли нет, я не знаю. Но Хеся очень рассердилась, что Надя не сделала чего-то, что она не сказала: «Эраст, как вы смеете!» и так далее. Но Хеся тоже была странная и отличалась от них от всех своей такой нравственностью суровой, потому что там творилось бог знает что: и на съемочной площадке, и без площадок тоже. А она все это очень не любила, и когда это касалось ее Эрасика, то она была просто в ужасе: