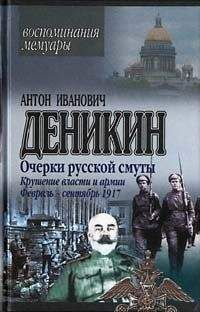Генерал Брусилов в первые же дни сосредоточения 8-ой армии (июль 1914 г.) отрешил от командования трех начальников дивизий и корпусного командира.
Бездарности все же оставались на своих местах, губили и войска и операции. У того же Брусилова генерал Д., последовательно отрешаемый, переменил одну кавалерийскую и три пехотных дивизии, пока, наконец, не успокоился в немецком плену.
И обиднее всего, что вся армия знала несостоятельность многих из этих начальников и изумлялась их назначению…
Неудивительно поэтому, что стратегия за всю кампанию не отличалась ни особенным полетом, ни смелостью. Таковы операции Северо-западного фронта в Восточной Пруссии[4], в частности – позорный маневр Рененкампфа, таково упорное форсирование Карпат, о которые разбились войска Юго-западного фронта в 1915 году и, наконец, весеннее наступление наше 1916 года.
Последний эпизод настолько характерен для высшего командования и настолько серьезен по своим последствиям, что на нем следует остановиться.
Когда армии Юго-западного фронта в мае перешли в наступление, увенчавшееся огромным успехом – разгром нескольких австрийских армий, когда после взятия Луцка моя дивизия большими переходами шла к Владимир-Волынску, – я, да и все мы, считали, что в нашем маневре – вся идея наступления, что наш фронт наносит главный удар.
Впоследствии оказалось, что нанесение главного удара предназначено было Западному фронту, а армии Брусилова производили лишь демонстрацию. Штаб хорошо сохранил тайну. Там, в направлении на Вильну собраны были большие силы, небывалая еще у нас по количеству артиллерия и технические средства. Несколько месяцев войска готовили плацдармы для наступления. Наконец, все было готово, а успех южных армий, отвлекая внимание и резервы противника, сулил удачу и западным.
И вот, почти накануне предполагавшегося наступления между главнокомандующим Западньм фронтом генералом Эвертом и начальником штаба Верховного главнокомандующего, генералом Алексеевым происходит исторический разговор по аппарату, сущность которого заключается приблизительно в следующем:
А. Обстановка требует немедленного решения. Вы готовы к наступлению, уверены в успехе?
Э. В успехе не уверен, позиции противника очень сильны. Нашим войскам придется наступать на те позиции, на которых они терпели раньше неудачи…
А. В таком случае, делайте немедленно распоряжение о переброске войск на Юго-западный фронт. Я доложу государю.
И операция, так долго жданная, с таким методическим упорством подготовлявшаяся, рухнула. Западные корпуса к нам опоздали. Наше наступление захлебнулось. Началась бессмысленная бойня на болотистых берегах Стохода, где, между прочим, прибывшая гвардия потеряла весь цвет своего состава.
А Восточный германский фронт переживал тогда дни смертельной тревоги: «это было критическое время; мы израсходовали все наши средства и мы хорошо знали, что никто не придет к нам на помощь, если русские пожелают нас атаковать»[5].
Впрочем, и с Брусиловым случился однажды эпизод, мало распространенный и могущий послужить интересным дополнением к общеизвестной характеристике этого генерала – одного из главных деятелей кампании. После блестящей операции 8-ой армии, завершившейся переходом через Карпаты и вторжением в Венгрию, в декабре 1914 года наступил какой-то психологический надрыв в настроении командующего армией, ген. Брусилова: под влиянием частной неудачи одного из корпусов, он отдал приказ об общем отступлении, и армия быстро покатилась назад. Всюду мерещились прорывы, окружения и налеты неприятельской конницы, угрожавшей, якобы, самому штабу армии. Дважды генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью, носившей характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь.
Мы отходили изо дня в день, совершая большие, утомительные марши, в полном недоумении: австрийцы не превосходили нас ни численно, ни морально и не слишком теснили. Каждый день мои стрелки и соседние полки Корнилова переходили в короткие контратаки, брали много пленных и пулеметы.
Генерал-квартирмейстерская часть штаба армии недоумевала еще более. Ежедневные доклады ее о неосновательности отступления сначала оставлялись Брусиловым без внимания, потом приводили его в гнев. Наконец, генеральный штаб обратился к иному способу воздействия: пригласили друга Брусилова – старика генерала Панчулидзева[6] и внушили ему, что, если так пойдет дальше, то в армии может возникнуть мысль об измене, и дело окончится очень печально…
Панчулидзев пошел к Брусилову. Между ними произошла потрясающая сцена, в результате которой Брусилова застали в слезах, а Панчулидзева в глубоком обмороке. В тот же день был подписан приказ о наступлении, и армия с быстротой и легкостью двинулась вперед, гоня перед собой австрийцев, восстановив стратегическое положение и репутацию своего командующего.
Нужно сказать, что не только войска, но и начальники, получая редко и мало сведений о действиях на фронте, плохо разбирались в общих стратегических комбинациях. Войска же относились к ним критически только тогда, когда явно приходилось расплачиваться своею кровью. Так было в Карпатских горах, на Стоходе, во время второго Перемышля (весна 1917 года) и т. д.
Нет нужды прибавлять, что технические, профессиональные знания командного состава, в силу неправильной системы высших назначений и сильнейшего расслоения офицерского корпуса мобилизациями, не находились на должной высоте.
Наиболее угнетающее влияние на психику войск имело великое галицийское отступление и безрадостный ход войны (без побед) Северного и Западного фронтов, а затем нудное сидение их на опостылевших позициях в течение более года.
* * *
Об офицерском корпусе я уже говорил. Большие и малые недочеты его увеличивались по мере расслоения кадрового состава. Не ожидали такой длительности кампании, и потому организация армии не берегла надлежаще ни офицерских, ни унтер-офицерских кадров, вливая их в ряды действующих частей все сразу в начале войны.
Я живо помню один разговор в период мобилизации, первоначально имевшей в виду одну Австрию, в квартире В. М. Драгомирова, одного из авторитетных генералов армии. Подали телеграмму: объявление войны Германией… Наступило серьезное молчание… Все сосредоточились, задумались.
– Как вы думаете, сколько времени будет продолжаться война? – спросил кто-то Драгомирова.
– Четыре месяца…
Роты выступали в поход иногда с 5–6 офицерами. Так как неизменно, при всех обстоятельствах кадровое офицерство (потом и большая часть прочих офицеров), в массе своей, служило личным примером доблести, бесстрашия и самоотвержения[7], то, естественно, оно было в большинстве перебито. Так же нерасчетливо был использован другой прочный элемент – запасные унтер-офицеры, число которых в первый период войны на должностях простых рядовых достигало иногда до 50% состава роты.
Отношения между офицерами и солдатами старой армии не везде были построены на здоровых началах. Нельзя отрицать известного отчуждения между ними, вызванного недостаточно внимательным отношением офицерства к духовным запросам солдатской жизни. Но, по мере постепенного падения кастовых и сословных перегородок, эти отношения заметно улучшались. Война сблизила офицера и солдата еще более, установив во многих, по преимуществу армейских частях, подлинное боевое братство. Здесь необходимо, однако, оговориться: на внешних отношениях лежала печать всеобщей русской некультурности, составлявшей свойство далеко не одних лишь народных масс, а и русской интеллигенции. Оттого, наряду с сердечным попечением, трогательной заботливостью о нуждах солдата, простотой и доступностью офицера, по целым месяцам лежавшего вместе с солдатом в мокрых, грязных окопах, евшего с ним из одного котла, и тихо, без жалоб ложившегося с ним в одну братскую могилу… наряду с этим были нередко грубость, ругня, иногда самодурство и заушения.
Несомненно, такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской среде, с тою лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее и жестче. Вся эта неприглядная сторона отношений, в связи с нудностью и бестолковостью казарменного режима и мелкими ограничениями внутренним уставом солдатского быта, – давала всегда обильную пищу для подпольных прокламаций, изображавших солдата «жертвой произвола золотопогонников».
Здоровой сущности не замечали: она умышленно затемнялась неприглядной внешностью.
А между тем, все мотивы обвинений, исходящих от начальников солдата, были хорошо известны. Они излагались в наводнивших армию в 1905 году листовках, повторялись заученными фразами на всех митингах, перепечатывались с некоторыми вариантами и в 1917 году. Кажется, кроме пресловутой формулы «без аннексий и контрибуций», солдатская революционная литература не обогатилась ни одним новым понятием. Если бы власть своевременно отнеслась внимательнее к психологии солдатской среды, изъяла из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и некоторые смешные или казавшиеся унизительными требования, то потом не пришлось бы отменять их под давлением, не вовремя и в расширенных размерах.