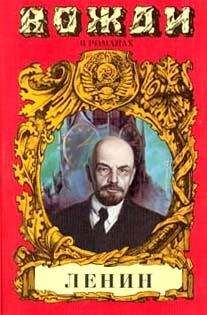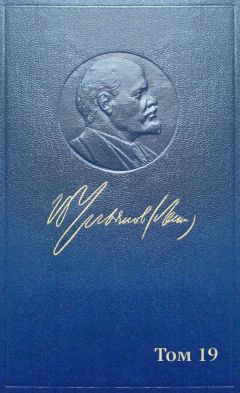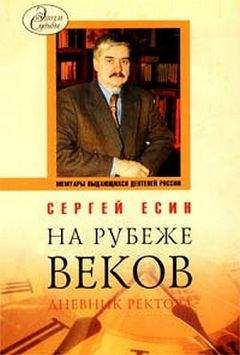Как мама относилась к социальным вопросам? В духовном смысле она предоставляла детям возможность идти своим путем, не всегда разделяя наши крайние взгляды, но уважая их. У нее было удивительно взвешенное отношение к чужим воззрениям. Круг ее чтения был разнообразен, но я доподлинно помню, что в ее комнате стояли собрание сочинений Шекспира в оригинале и многотомная «История Французской революции» Тьера. Что у того и другого автора было ей близко? Мне иногда казалось, что у мамы — шекспировский характер. Смерть отца, гибель Саши, ранняя смерть Оли, аресты и ссылки детей…
Здесь, конечно, стоит порассуждать, почему все дети директора народных училищ и его жены соединили свою жизнь с демократическими силами, выступавшими против деспотизма и произвола господствующих классов. Почему все мы, формально принадлежа к этому классу, боролись против него и предпочли размеренным дням и карьере жизнь подпольщиков и революционеров? У меня нет короткого и полного ответа. Инстинкт? Какой инстинкт? Свободы и справедливости? Людей, жалящих и подтачивающих свой класс, много: Сен-Симон — граф, Томас Мор, автор «Утопии», — канцлер Англии, все декабристы — дворяне, причем многие немалых чинов и высоких титулов. Я уже, кажется, говорил, что отец был на редкость ответственным человеком и прекрасным, самоотверженным чиновником. Но тем не менее недаром два раза министры народного просвещения подписывали приказ об отставке симбирского тихого вольнодумца. Я помню, как Саша с чувством декламировал некрасовские «Песню Еремушке» и «Размышления у парадного подъезда». Перечтите эти вещи, чтобы понять их могучую революционную силу. Но ведь рекомендовал обратить на них внимание отец.
Маме очень нелегко было в провинции сохранять достоинство и гордость, будучи матерью государственного преступника, но мама никогда не склоняла головы, ни перед кем не заискивала. Она знала, что ее дети не могут быть людьми недостойными. А сцены бывали ужасные.
Я помню, как только до Симбирска дошло известие об аресте Саши — уже работал телеграф и новости приходили из столицы через три-четыре часа, — мама сказала: «Я еду в Петербург». Маме тогда уж было пятьдесят два года. Путь был длинный, железная дорога доходила только до Сызрани, а от Симбирска это было шестьдесят верст — далеко, дорого и одной небезопасно. Снег еще не сходил, ехать надо было на лошадях. Мне тогда было шестнадцать лет, я побежал искать ей попутчиков, но все уже о случившемся знали и — мещанская, филистерская трусость! — ехать с такой попутчицей, хотя и статской советницей, но матерью цареубийцы, отказывались. Мама присутствовала на суде, и при ней Саша произнес свою знаменитую речь и выслушал приговор. Она проводила его на эшафот со словами: «Мужайся, мужайся». Ее ребенок не мог поступить бесчестно, у него была своя искренняя правда. Верила ли она в эту правду или содержание ее отстраняла от себя? Не знаю. Она сохраняла духовную связь с нами до самой своей смерти, если не до конца понимая нас умом, то чувствуя сердцем. Первое, что я сделал, когда в апреле 1917-го вернулся в Россию, в Петроград, — в тот же день пошел на Волково кладбище, к могиле мамы. Она скончалась 25 июля 1916 года. Тогда ни она, ни я не предполагали, что статская советница и мать цареубийцы может стать еще и матерью Председателя Совета Народных Комиссаров, главы советского государства.
Один из самых трудных вопросов в человеческой жизни — это выбор пути. Как человек выбирает свое призвание? Почему один становится полицейским, а другой — революционером? Могла ли моя судьба сложиться по-другому? Могла. Не только история, но и человеческая жизнь не имеет сослагательного наклонения. Я вполне мог пойти по стопам отца, стать хорошим учителем и даже сделать карьеру. Вполне возможно, что я мог бы стать хорошим шахматистом и, хотя я не люблю шахматной теории, даже шахматистом-профессионалом. Играть, между прочим, меня научил отец и подарил мне шахматы, вырезанные из дерева им собственноручно. Я очень дорожил этим подарком и горевал, когда они пропали во время моих бесконечных переездов. Возможно, я мог бы стать неплохим адвокатом — по образованию я юрист.
Если по правде, юристом я, наверное, был не самым хорошим. Можно, казалось бы, сказать и так: служа помощником присяжного поверенного в Самаре и Петербурге, большинство своих дел я проиграл. Но два соображения. Во-первых: тогда я уже стал революционером и по преимуществу занят был именно этим служением Отечеству. И во-вторых: если проанализировать, скажем, дела, которые я вел в Самарском окружном суде, то получится, что в большинстве случаев я их выигрывал: либо у самого обвинения — против обвинительного акта, либо у представителей обвинения — против его требований о размере наказания. Мне один раз удалось даже склонить присяжных заседателей заменить год тюремного заключения, на чем настаивало обвинение, штрафом. Это было дело начальника железнодорожной станции, судимого за служебные упущения.
Со временем биографы, если их не упредить, напишут, что проблемами социального равенства я занялся с детских лет и Маркса прочитал в гимназии. Как и на любого заметного общественного и политического деятеля, на меня навесят массу слов, которых я не произносил, придумают фразы, которые я не говорил, и припишут поступки, которых не совершал. Чаще это делается не по злому умыслу. Людям начинает казаться, что они это слышали, видели, или они предполагают, что человек обязательно должен был так сказать. Потом люди держатся за красивую фразу, которую придумали, и не в силах от нее отказаться. Мы все дети фразы. Маркса я в гимназии не читал.
В нашей гимназии, в актовом зале, перед портретом государя гимназисты каждую субботу не пели «Боже, царя храни», а подобным образом директор мог выслужиться перед губернатором. Такое бывало в гимназиях и, кажется, раньше даже в нашей, симбирской. Но зато в моем ученическом билете были напечатаны «Правила относительно соблюдения порядка и приличия учениками вне стен учебного заведения». Если меня спросят, как в детские души закрадываются сначала сомнения в правильности миропорядка, а потом нигилизм, я отвечу: «Из правил!» Перлы эти не забываются: «Вне дома ученики всегда обязаны быть в одежде установленной формы, и положенные для них полукафтаны и зимние блузы должны быть застегнуты на все пуговицы. В летнее время, приблизительно с 1 мая по 1 сентября, при теплой погоде и по желанию родителей, ученикам дозволяется носить парусиновые блузы с черными ременными кушаками, парусиновые брюки и белые фуражки с установленными буквами. Но и в летнее время ношение зимней формы не воспрещается; смешение же некоторых частей летней формы с принадлежностями зимней формы не дозволяется. Отправляясь для занятий в учебное заведение, а равно возвращаясь из оного, ученики обязаны все классные принадлежности иметь в ранцах, которые должны носить не в руках, а непременно на плечах». И подобной чепухи десять пунктов! «При встрече с Государем Императором и членом Императорской фамилии ученики обязаны останавливаться и снимать фуражки, а при встрече с гг. Министром народного просвещения и товарищем его, а также губернатором и архиереями — ученики обязаны отдавать им должное почтение, снимая фуражки и вежливо кланяясь» (Не эти ли правила, усердно затверженные с младых ногтей петербургским градоначальником Треповым, сыграли с ним зловещую шутку, толкнув на действия, оскорбляющие достоинство беззащитного арестанта? Но об этом в своем месте.).