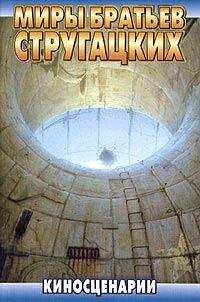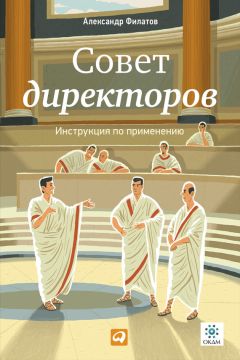Пышно расцвели злые шутки, которые местные называли «гейнерами». Вопрос: «Как тебе родня Гейна?» Ответ: «Вкусно». Или «Какой у Эда Гейна номер телефона?» На что следовал ответ «O-I-C-U-8-1-2»[3]. И это чтобы разрядить еще один неозвученный кошмар: «Почему Гейн никогда не попадал в тюрьму?» Ответ: «Потому что он просто нарисовал картину женщины на стене и проел себе выход». Завсегдатаи баров шутливо требовали «гейн-пиво» (побольше пива и никакой пенной макушки), а вскормленные на кукурузе детишки с ангельскими личиками, как на банках супа «Кэмпбелл», прыгая через скакалочку, распевали:
Перед самым Рождеством,
По всей школе
Нет ни звука, никого,
Кро-меее
В ряд висящих с потолка
Ууучилок,
Чтоб Эд Гейн распотрошил их
До последних жилок.
Накануне тихой, смиренной смерти Гейна в приюте 26 июля 1984 года больничные сотрудники характеризовали его как «послушного» и «безобидного». Его представления о внешнем мире были минимальны, а о своих преступлениях он вовсе ничего не помнил. Почти двадцать лет тому назад – возможно, ради очищения Плейнфилда от присутствия Гейна – неизвестные сожгли его ферму. До сих пор всякие ненормальные, любители криминала, искатели острых ощущений и маргиналы совершают паломничества на развалины его дома. И местные жители признаются, что ни одни святки не проходят без того, чтобы какой-нибудь малыш не пропел «Заткните прорехи кусочками Молли».
Никто не может измерить во́лны страха, разошедшиеся от чудовищных деяний Эда Гейна, или страданий, причиненных им своим жертвам и их родственникам. В 1957 году большинство американцев считали себя богопослушными, пристойными людьми в серых фланелевых костюмах, или совершенно образцовыми женами типа Дорис Дэй, или примерными детьми, подобно Ширли Джонс и Пэту Буну из «Любви в апреле»[4]. Мы избрали президента по имени Эйзенхауэр, крутили хула-хупы и смотрели «Оззи и Харриет»[5]. Но в городке, расположенном менее чем в сорока милях от Плейнфилда, один мужчина, бреясь, пристально вглядывался в зеркало в ванной, размышляя о Гейне, о себе, и пытался унять дрожь в руках.
Искренне ваш, Роберт Блох
Город Вейявега, Висконсин расположен в тридцати девяти милях от Плейнфилда.
Роберт Блох, скромный, но очень одаренный сорокалетний писатель, однажды утром, посмотревшись в зеркало, заглянул себе в душу и содрогнулся. Он только что закончил новый роман – и осознал, что, возможно, задумавшись о человеческом духе, эксгумировал из себя нечто неописуемо ужасное. Надо признаться, что это была не первая его книга, отображающая темные стороны жизни. Поклонник и протеже Верховного Жреца литературной фантастики и ужаса Говарда Лавкрафта[6], Блох поставил на животный страх в 1934 году, в рассказе «Лили», который он продал «Марвел Тейлс», когда ему было всего семнадцать лет. Читая первые газетные статьи об Эде Гейне, Блох уже был известен как автор романа «Шарф», написанного девять лет тому назад. Книга начинается словами: «Фетиш? Это ты сказал. Я же знаю лишь то, что это всегда было мне необходимо».
Несмотря на то что Роберт Блох и его жена не выписывали местный рупор «Хроники Вейявеги», писатель жадно искал хотя бы несколько скудных строчек про Гейна, затерявшиеся между счетов с церковных базаров и ежедневной периодикой. Когда Роберт просмотрел более крупные газеты Милуоки, он удивился тому, что даже они постарались заглушить эту историю. Неказистый, субтильный со звонким голосом Блох вспоминает: «Факты были скудные, поскольку пресса не стремилась освещать пресные местные события. Мне только удалось узнать, что человека арестовали после убийства хозяйки скобяной лавки, которую нашли подвешенной у него на ферме, освежеванную будто скотина. Потом полиция обнаружила другие «неустановленные» доказательства, приведшие к заключению, что он не только совершал убийства, но и раскапывал могилы».
Скудные факты так захватили Блоха, что он с воодушевлением начал делать записи. Писатель вспоминал: «Я размышлял, как могло случиться, что этого человека никогда не подозревали ни в чем плохом – и это в городе, где, если кто-то чихнет в одном конце, на другом конце обязательно скажут «будьте здоровы». Как случилось, что о массовых убийствах узнали лишь случайно? Я также недоумевал, насколько неохотно его соседи говорили об этих преступлениях. И я сказал себе, что это именно то, что мне надо».
Начав с нескольких заметок, которые Блох раздобыл о Гейне, писатель принялся фантазировать на тему главного героя для нового романа. В то время Роберт и не мечтал, что этот человек впечатается в самую сердцевину специфически американской темной стороны души. Он вспоминал: «Мысленно я представлял, что персонаж будет эквивалентом Рода Стайгера[7], который жил в одиночестве, – этакий затворник, не имеющий друзей. Как будет он выбирать своих жертв? Мне пришло в голову сделать его хозяином мотеля, где всегда есть большой выбор незнакомцев. В то время я не знал, что убийца был еще и гробокопателем. Кроме того, считалось не совсем вежливо обсуждать подобные вещи в газетах, не говоря уже о мистической литературе пятидесятых годов».
Следуя своему интересу к аномальной психологии, Блох начал подбирать подходящие, если не сенсационные, средства и мотивации для своего ненормального героя. Писатель объяснял: «Само по себе его одиночество и убийство приехавших клиентов было бы недостаточно для выявления преступления. Я подумал, а что, если он будет совершать убийства в состоянии амнезии и ассоциирования себя с другой личностью? Но с личностью кого? Тогда, в конце пятидесятых, теория Фрейда была чрезвычайно популярна, и, несмотря на то, что мне больше нравился Юнг, я все же решил развивать историю в направлении Фрейда. Большое внимание этот психолог уделял эдипову комплексу, поэтому я решил, что, допустим, убийца должен страдать именно этим заболеванием, в основе которого лежит раздвоение личности. Давайте предположим, что мать умерла. Естественно, для развития сюжета было нежелательно, чтобы она маячила на страницах романа. Но предположим, что он вообразил, что она все еще жива. То, что у него возникали амнезические образы, привело к тому, что во время совершения убийств он становился матерью. Возможно, в одиночестве он разговаривал с ней. Потом я подумал, что было бы здорово, если бы она в какой-то степени присутствовала. Именно тогда появилась идея, что он хранил ее труп».
Использовав таксидермию как основной инструмент построения сюжета, Блох перешагнул границу, разделяющую пристойную «салонную таинственность» того времени и откровенный «шокер». Кроме того, Блох немного поиграл с таким приемом, как повествование от первого лица главного героя, маменькиного сыночка. Если бы гамбит сработал, то неожиданная концовка могла бы наложить сугубо фрейдистский оттенок на книгу в жанре «кто это сделал». Если бы прием не удался, то Блох упокоился бы вместе с теми авторами, кому не повезло достичь дьявольского совершенства Эдгара Аллана По или Джима Томпсона в его «Убийца во мне».