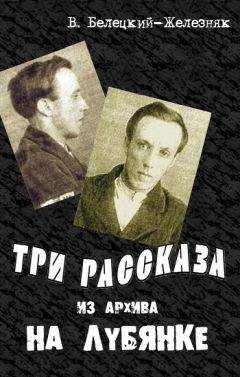Мусор
Мне очень трудно начать писать. Болит голова. Но я должен писать. На пороге второй пятилетки, пятилетки, о которой ты говоришь с энтузиазмом комсомольца эпохи гражданской войны, когда многое завершено — и Магнитогорск, и Беломорско-Балтийский канал… и Днепр… Когда все это взято вашим упорством, когда вы подходите к необычайным делам, я, бывший член партии и секретарь райкома комсомола, «сматываю удочки».
Ты скажешь «есенинщина»… ты запоешь еще что-нибудь другое. Но нет.
Ты не знаешь, мой друг, как тяжело лицезреющими чувствами гладить по извилинам своего больного мозга.
Ты еще не знаешь того, что на трудном пути сознания набросаны подчас каменья, препятствующие тяжелому ходу мыслей — наверное, Шопенгауэру, а Шопенгауэр был величайший страдающий гений, наверное, мучительные чувства препятствующих камней были свойственны его великому разуму.
Наверное, и содрогающемуся от нервного бича, пронзающему тело судорожными иголками, вечному композитору боли, бессмертному Скрябину, когда перед умственным взором его партитура оживала нервами скрипок, фаготов и флейт, наверное, ему давили ногу мозоли и резали подошвы острые, клыки камней.
Я знаю — наверное!
Я знаю очень много, ибо только я видел жуть Канатчиковой дачи — только я!
Сейчас я снова перекинут в свою комнату, пыль нависла разноцветными гирляндами: ты думаешь, что пыль не может быть разноцветной? Нет, может.
Она бывает, как изумруд, а иногда, как мертвый застывший глаз топаза.
Да! Я в своей комнате — кровать, застеленная два месяца тому назад, наполняет меня желанием крепкого сна — сна без дум и без Скрябиновской музыки, самого простого несложного сна с видениями — пожара, покойника, милиционера или изменяющей жены.
Но я нарочно не ложусь спать, я не хочу отдавать свои мысли на поругание два месяца ожидающей подушке.
Пусть она будет нетронутой. Я не хочу осквернять свои мысли, и потому я пишу тебе.
Ты, наверное, не забыл, как мы начали нашу дружбу в девятнадцатом пятнадцатилетними пареньками, первыми комсомольцами губернского города, я был тогда гимназистом пятого класса, а ты кончал мещанское училище; наверное, ты не забыл, как мы в двадцатом пошли добровольцами на врангелевский фронт, ты, наверное, помнишь и нэп, когда тоскующими от отсутствия незабываемых дней войны вечерами мы сидели на веранде дряхлого провинциального домика и, сокрушая прежнее, говорили о будущем — у тебя было славное лицо, разделенное нервным параличом от познания мудрости ожидаемого расстрела (ах, этот Крым!), твои серые глаза пытливо смотрели в будущее, а мои видели земное — сегодняшнее.
Ты был романтиком приходящих лет, и каждая заметка, набранная петитом, о новом колхозе или о строящемся в далеком, неизвестном мне Узбекистане заводе приводила тебя в великолепнейшее настроение.
Как сейчас вижу тебя, проливающего густой прелый чай на сосновую поверхность стола от неосторожного движения радующихся рук, держащих «Известия».
Ты тогда, размазывая прелую жидкость, возбужденно оживал одной половиной лица (другая — милая и жестокая — застывала в судороге несокращающихся мышц) и восторженно кричал: «Мы растем! Мы победим!»
Я был романтиком, когда мерил в стоптанных башмаках версты по страждущей земле и когда мое плечо отягчал ремень винтовки.
Слушай! И даже тогда, когда на рубашке ползали белые гнуснейшие вши.
Я был романтиком голодных лет, и мое изможденное тело и голодное брюхо питались прекраснейшей амброзией приказов Реввоенсовета.
А ты помнишь, как мы поссорились?
Было так — на заседании бюро ты произнес громовую речь о том, что те люди, которые не понимают грядущих перспектив, — ненужные люди и что партия должна их смести, как мусор.
Ага! Помнишь — мусор? А ведь мы были друзьями!
Разве я не отдал несколько лучших лет партии? Разве я был плохим секретарем второго комсомольского райкома? Разве я не организовал показательный молодежный клуб в городе? Разве я не просиживал ночами над учебниками и не сдал зачетов заочного университета? Разве я… Ах, как болит голова…
Я знаю свою вину… Моя вина в том, что я боюсь… Теперь я могу признаться: боюсь нового строительства… Меня пугает всепоглощающая машина… индустрия… меня пугает громоздкость агрегатов… они всюду, они везде… и на полях, и в лесах, даже непроходимые чащи завоеваны машиной… Я не могу… не могу…
Гражданин Шопенгауэр! Что есть материя — фикция или предопределение?
Вы — величайший из величайших — не могли сопротивляться сухой логике цифр Маркса, ваша гениальная интуиция склонилась заржавелым рыцарским забралом перед усовершенствованным станком мыслительного аппарата автора «Капитала».
И вы ушли в мое гниющее болото, где разум стоит над бездоннейшей пропастью пропахшего кислого пива безумия.
Гражданин Шопенгауэр! Если бы вы жили в мое время, вас лишили бы права голосовать в Моссовет и иметь заборную книжку — ибо заборная книжка — это патент на мировую революцию!
Да, ты сказал «мусор», и я, воспламененный, загорелся, вечером я подписал оппозиционный листок, и через три недели был вызван в партком, и у меня отобрали маленький билет под номером 348 422.
Я был интеллигентом, и в моем мозгу копошились университетские лекции и стихи Блока.
Мне было жаль отдавать билет — но было еще более жаль думать, что борьба окончилась.
Еще помню последний разговор с тобой перед моим отъездом в Москву.
Я пришел к тебе в кабинет коммунхоза, где ты сам любовно развесил на стене разноцветные кривые диаграммы будничного провинциального строительства.
Ты тогда сказал скупые слова: «Если не поймешь нужности сегодняшнего, ты никогда не будешь в завтрашнем!»
Ты был сух и прост, как сухи и просты строительные леса на улице Карла Либкнехта.
Ты был горд созданием новых городских боен, и тебя интересовала магистраль канализации.
Я снял свою подпись с листка — и уехал в Москву.
Я поступил на третий курс университета и поразился тому, что университет уже не дает того ощущения, что давал, когда я был заочником.
Я сказал себе: «Ты устарел!» — и стал манкировать лекциями. Главное: я жил на Арбате в одном из самых тишайших переулков Москвы — в спокойнейшем особняке бывших графов Бобройских.
Зачем там поселился?
Почему мне дали ордер именно в этот особняк?
Вот теперь самое страшное: ты отложи на время счета, отложи на время и вникни.
Ведь это последнее письмо к тебе…
Нет… Не то!
Мысли опять путаются.
Строю их в правильные шеренги.
Готово!