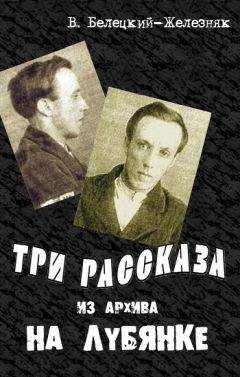Нет… Не то!
Мысли опять путаются.
Строю их в правильные шеренги.
Готово!
Глоток освежающей воды и щепотка кокаина — и я снова прежний человек.
Итак, особняк.
О таких особняках писал Тургенев, такие особняки наиболее вредны для лиц, отравленных ядом рожденной крови.
Яд крови — происхождение.
Дряблость отца и неуравновешенная любовь матери создают выродков…
Нет… опять не то!
Вырождаемость есть признак культуры! — говорил герцог Оскар Шлезвинг-Гольштейн — аристократ, записанный в Готском Альманахе.
К чертовой матери аристократов!
Я — бывший член партии Сергей Александрович Рубаковский, по профессии — нуль, говорю: «К чертовой матери!»
Особняк имел два этажа, вернее так: антресоли из двух комнат — и внизу четыре комнаты.
На антресолях жили два дворянских семейства — князья Болотовы и графы Зарницыны.
Эти бывшие аристократы жили, как мыши, в каждом из нас они видели врага, и взгляды их при встрече со мной изображали самую покорную забитость.
Я знаю — так прежде мои предки смотрели в глаза их предкам. Князья Болотовы вскоре после моего приезда были выселены из Москвы, и остались одни Зарницыны.
На место Болотовых вселили какого-то служащего со скорбной женой и двумя малолетними детьми.
Служащий (его звали Петр Семенович) имел пристрастие к спиртным напиткам и любил говорить об астрономии.
Он говорил примерно так: «От Сириуса до Венеры двести тысяч километров, а сколько километров от острова Сахалина до созвездия Близнецов?»
Никто этого не знал, да и он плохо понимал, что спрашивал, но сами планеты и звезды давили на его мозг суеверным страхом возвышенных названий.
Петр Семенович невзлюбил всем своим существом Зарницыных и отравлял их покой криками и придирками.
Зарницыных было в одной комнате четверо: старый паралитик-дед, не слезавший с ветхого протухшего вольтеровского кресла, он всегда молчал, и только лишь когда боль тоски дряхлого и ненужного породистого пса охватывала тело, он тихо заунывно выл, и тогда его сын, сорокапятилетний Георгий Георгиевич, брал его руки в свои и умолял: «Папа, успокойтесь! Ради Бога, папа, успокойтесь! Ведь они услышат! Папа!»
Георгий Георгиевич был высокого роста, у него были правильные черты лица, облысевшая голова и приниженные жалующиеся глаза, говорил он мягко и всегда заискивающе и голову держал набок, как проситель в канцелярии наркома, он боялся всего — и дворника, и управдома, и своего соседа, и меня. В молодости он служил в лейб-гвардии кавалергардского полка, во время войны работал в Красном Кресте, при советской власти корпел статистиком и, уволенный год тому назад по сокращению штатов, получал пенсию в сорок рублей и пребывал в самой отчаянной бедности; каждое утро он с двенадцатилетним сыном Андрюшей (мальчиком болезненным и хрупким, с проваленной грудью — мальчик постоянно надрывался кашлем) куда-то уходил, а дома оставались старый паралитик и восемнадцатилетняя дочь Нина, тоненькая, с яркими карминовыми губами; на ее маленьком личике властвовали большие сероватые глаза, и удлиненная дешевая юбка еще резче подчеркивала ее худобу.
Про Нину Петр Семенович распускал гнусные сплетни, он уверял, что девушка продается, и те редкие молодые люди, которые по вечерам заходят за Ниной, чтобы пригласить ее в дешевое кино, — ее любовники, и что даже шестидесятилетний бухгалтер Серяков, толстый противный старик, мой сосед, пользуется продажностью Нины.
И, напившись пьяным, Петр Семенович орал на антресолях:
Чем торгуешь? Мелким рисом.
Чем болеешь? Сифилисом!
Тогда дед ворочался в кресле и начинал скулить по-собачьи, а Георгий Георгиевич смотрел тоскующими глазами на Нину и шептал: «Ну ради Бога, оставь! Пусть! Ведь «они» разве понимают?»
Видишь, я становлюсь беллетристом и стараюсь дать тебе точное понятие об этих людях. Они втерлись в мою жизнь, как крапленые карты в колоду шулера. И они заставили меня… впрочем, об этом еще рано…
Я думаю, ты не устал разбирать мой падающий вниз почерк. Падающий почерк — это безволие характера. Пустяки!
Через несколько месяцев по приезде в Москву я перестал посещать университет и благодаря Мише Тоникову (ты его помнишь — военком 6-го стрелкового) устроился в тресте «Масломасс».
За два дня до того, как я попал на Канатчикову дачу, я купил билеты в Большой театр, причем, покупая второй билет, я знал, что беру его для Нины, а ведь я с нею ни разу не разговаривал. Уже по дороге испытывал нервное возбуждение, мне казалось диким прийти к Зарницыным и сказать: «Пойдем в театр».
Была пивная, и в ней я нашел не только приют, с четвертой кружкой горклого пива я приобрел временную уверенность в нужности своего поступка.
И вот решимость толкнула меня к Зарницыным. Дверь открыл Георгий Георгиевич. По его глазам я понял, что он не ожидал моего визита.
Он сконфуженно обернулся в сторону сидящего в кресле деда и стоявшей у окна Нины и проговорил:
— Нина! Гражданин Рубаковский хочет тебя видеть!
Он был догадлив и сразу уразумел, что на антресоли могло меня привести только к Нине.
Нина, осторожно ступая своими башмаками, подошла к двери. Она взглянула на меня, и в ее зрачках, больших и глубоких, я познал пляшущее безумие — зрачки были притягивающие и пугали своим агатовым блеском.
— Вам что? — голос разбился в моих ушах на отдельные падающие ноты — «вам» звучало как «ре», а «что» взметнулось жалующимся «ми».
— Вам что?
И тогда, чувствуя усталость в ногах, я сказал:
— Нина Георгиевна, я прошу вас поехать со мной в театр.
Не было безумия, просто бедная маленькая девушка обрадованно ответила:
— Большое спасибо, товарищ Рубаковский, — и кокетливо улыбнувшись: — Вы за мной зайдете?
И вдруг на кровати кто-то жалобно заплакал, заплакал, всхлипывая с надрывом. Плакал Андрюша — его узкие плечи дрожали в пароксизме одному ему понятных переживаний.
Георгий Георгиевич наклонился над сыном и, виновато моргая веками, сказал в мою сторону:
— Извините великодушно. Он очень нервный и впечатлительный, а его сегодня обидели, — и повторил: — Его сегодня обидели, его сегодня обидели!
Мальчик продолжал всхлипывать, тогда я подошел к кровати и увидел затылок и синие тонкие раковины ушей.
— Бросьте плакать, — сказал я и погладил мальчика по спутанным мягким волосам, — не надо плакать.
Андрюша вскинул головой, и его синеющее лицо выглянуло испуганно:
— Оставьте меня в покое.
Я сконфуженно вышел, сказав: