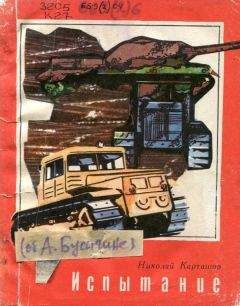— К нам летят! — крикнула Вера Ивановна.
Звено самолетов, отделившись, повернуло к Кировскому заводу.
Когда самолеты были над самым заводом, у Николая замерло сердце. Он лег на крышу, чтобы его не скинуло воздушной волной, а Вера Ивановна стояла на крыше во весь рост, как бы бросая вызов ненавистным фашистам, не желая показать, что она хоть сколько-нибудь боится их бомб и пуль. И когда зенитчики сбивали вражеский самолет, Вера Ивановна кричала «ура», прыгала от восторга.
Николай отчетливо увидел, как самолеты высыпали «зажигалки» и как они, кувыркаясь в воздухе, полетели на крышу. Он хватал шипящую и светящуюся бледно-голубым светом зажигательную бомбу, как змею, огромными щипцами и бросал ее в ящик с песком. Потом хватал вторую, третью, четвертую… Николай видел, как Вера Ивановна, бесстрашно и быстро орудуя щипцами, тушила зажигалки. И вдруг раздался страшный удар. Николаю показалось, что здание цеха закачалось и вот-вот рухнет. По спине прошел холодный озноб, и в эту же секунду он увидел, что Веру Ивановну швырнуло с крыши вниз.
— Вера! — вне себя от ужаса закричал Николай. Огромным усилием поборов страх, подобрался к самому краю крыши, чтоб узнать, что произошло с женщиной. Но в это время раздался новый взрыв и опять посыпались «зажигалки». Бусыгин кинулся их тушить.
Потом, после отбоя, Николай узнал о гибели Веры Ивановны. Узнал он и о том, что фашистские самолеты сбросили бомбу на здание конструкторского отдела, но она немного отклонилась от цели. Взрывной волной в здании вырвало переплеты оконных рам, отвалилась штукатурка. Среди конструкторов были контуженные и раненые. В ту же ночь отдел перевели в Дом культуры. И опять прилетели фашистские самолеты и бомбили Дом культуры. Стало ясно: фашисты охотились за конструкторами грозных танков, и вражеские лазутчики давали им точную цель. Пришлось спрятать конструкторский отдел в другом районе города — на Выборгской стороне.
Кольцо блокады все сильнее сжимало огромный город. К середине осени немцы поняли, что штурмом взять Ленинград невозможно. Фашисты, установив севернее Тосно орудия, начали обстреливать ленинградские улицы. Цехи Кировского завода враг обстреливал из орудий и минометов, завод оказался в полном смысле на линии огня — в нескольких километрах от переднего края. Сборщики работали даже во время артобстрелов. И только, когда налет обрушивался на «СБ-2», Василии Иванович спокойно и тихо говорил ребятам:
— Давайте быстро в укрытие. Сейчас здесь начнет долбить, огонька подсыплет.
Бригада уходила в укрытие.
Пока наверху бушевал артиллерийский огонь, рвались снаряды и мины, деминцы, примостившись кто как сумел, отсыпались. Старый путиловский мастер смотрел на их бледные лица, тускло освещенные одной электрической лампочкой, и удивленно качал головой:
— Надо же, а, спят. Им этот фашистский сабантуй до феньки. Молодость…
Видимо, забыл старый путиловец, что и у молодости имеется предел прочности. Даже металл и тот устает.
Взрывами в цехе высажены окна и двери, с Финского залива сюда врывался осенний ветер и буйствовал вовсю.
Стало голодно. В октябре рабочие стали получать в сутки 250 граммов хлеба, служащие и иждивенцы — 125. Голод хватал за горло. Но люди, сжав зубы, собрав в кулак всю волю, работали. Многие погибали. Покойников возили на Красненькое — родовое кладбище путиловских мастеровых, возили хоронить по ночам.
На заводском дворе часто появлялись буксируемые тягачами порыжевшие танки — их прямо с поля боя доставляли на завод для ремонта. И тогда появлялся Демин и коротко говорил:
— Пошли, объект привезли. — И бригада шла ремонтировать танк. Вместе с молчаливыми танкистами, у которых обычно была забинтована голова или лицо. На бинтах — пятна запекшейся крови.
Бусыгин спрашивал у фронтовиков:
— Выстоите?
Танкисты горько улыбались, слушая этот наивный вопрос, и, в свою очередь, спрашивали:
— А вы — выстоите?
— Выстоим! Выстоим! — яростно отвечал Николай. — Ну и мы из того же теста, что и вы. Ленинград не отдадим. — И на их закопченных, изможденных лицах появлялась улыбка.
Демин похудел, но духом он по-прежнему был непоколебим. Полежит возле танка десяток минут, и опять за работу.
Отремонтируют танк. Демин берет кусок мела и размашисто пишет на башне: «Вперед на врага!»
— Вот так, Никола, — говорит Василий Иванович. — Маленько передохнем — и за следующий возьмемся. Вперед на врага! Только так, а? У нас и терпения, и выдержки хватит.
Перед самыми Октябрьскими праздниками на участок бригады Демина пришел начальник цеха. Казалось, что огромная беда, свалившаяся на страну, на Ленинград, на путиловцев, внешне нисколько не затронула этого далеко уже не молодого, худощавого человека. Как всегда, он был ровен, приветлив, и глаза, добрые, карие, под нависшими бровями светились все так же спокойно.
Он позвал Демина:
— Василь Иваныч, ко мне. Бегом надо, когда начальство зовет…
— Отбегался, — спокойно ответил Демин, — харчи не те…
— Собирай своих гвардейцев.
— А что стряслось?
Что ответил начальник цеха, Бусыгин не расслышал, а очень желал расслышать, потому что понял: не зря собирают бригаду, отрывают от срочной работы. Неужели эвакуация? Не хотелось в это верить.
Но не верить Бусыгин уже не мог: все стало до предела ясно, как только начальник цеха произнес первые же слова.
— Ну, вот что, орлы боевые, наступил и наш черед перебраться на новые квартиры, то есть туда, куда уехали наши товарищи, — на Урал. Вот. — Начальник цеха умолк. — Обстановку вы сами знаете, нового ничего добавить не могу. Работать нам фашисты здесь не дают, и не дадут, стервецы: им путиловцы — поперек горла. А строить танки надо — что здесь, что на Урале.
Потом помолчал, пожевал посиневшими от холода губами и уж с какой-то затаенной грустью добавил:
— Мы тут, на родном заводе, делаем все, что можем. А надо делать больше. Вот так. Нам, конечно, не все равно, где быть, — тут или там, не все равно. Мы всегда здесь были как бы в центре жизни. Всякое было. — Голос его окреп, будто бы стал звонче и бодрее. — Я вот что скажу вам, мои дорогие: где бы ни работали, мы — кировцы, путиловцы, по-прежнему с Нарвской заставы, так вот.
Деминцы окружили начальника цеха и молчали. И кто мог бы сказать, какие чувства обуревали их сердца, кто бы мог измерить горе и тоску этих людей, которые вынуждены покинуть все то, к чему сызмальства привыкли, чем гордятся, что навсегда вошло в их жизнь.
— У меня вопрос. — Бусыгин, как в школе, поднял руку.