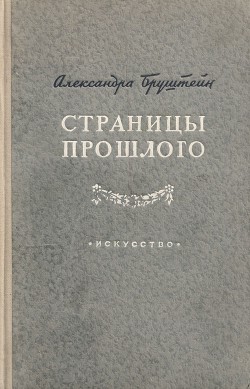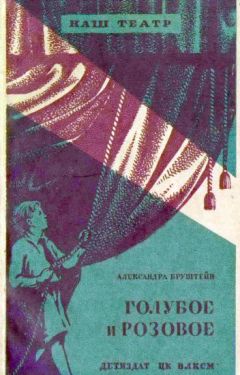Роберт Адельгейм в «Казни» создавал образ Годды с настоящим блеском. Под его руками играли несложные клавиши души Годды: его любовь к Кэтт, его бескорыстие, легкие переходы от веселости к отчаянию, от негодования к восторгу. Думаю, что все старые театралы помнят сцену, где Годда - Адельгейм читал вслух и пояснял Кэтт письмо его матери,- это было большое мастерство.
Рафаил Адельгейм очень отличался от своего брата. Он был не так картинно красив, да и не играл красавцев. В противоположность Роберту, Рафаил Адельгейм имел голос не очень приятный, резковатый, в особенности в нижнем и среднем регистрах. Не имел Рафаил Адельгейм и темперамента своего брата. Ему была свойственна рассудочность, всякая его роль была продумана насквозь во всех деталях. Он играл роли характерные: бен Акибу в «Уриэле Акосте», Франца Моора, Яго, Шейлока и т.п.
Яго у Рафаила Адельгейма был задуман и игран не так, как его играли почти все провинциальные актеры того времени. Люди, видевшие Э.Поссарта, говорили, что так играл Яго именно Поссарт. Обычный Яго тогдашних провинциальных театров был такой назойливо-неприкрытый злодей, что зритель разгадывал его с первой же сцены. Оставалось непонятным, почему все остальные персонажи пьесы так слепы и ребячески-наивны, что не замечают ягова злодейства! Рафаил Адельгейм играл Яго солдатом, прямым до грубости, рубакой и рубахой-парнем. Именно поэтому все его наветы на Дездемону приобретают для Отелло особую достоверность и убедительность. Уж если это видит Яго - неискушенный, простой сердцем солдат,- то, значит, это так и есть! Яго слишком прост и груб, чтобы придумывать такие тонкие и хитрые обвинения. Этот несомненно интересный замысел Рафаил Адельгейм выдерживал не во всей роли,- минутами, хотя, правда, не часто, он вдруг начинал играть Яго стопроцентным злодеем со злобным сверканьем умных глаз и нарочитой «злодейской» дикцией. До сих пор помню, как в своем монологе о том, почему Яго ненавидит Отелло, Рафаил Адельгейм говорил:
…Гов- в-ворят, что мавр
Хоз- з-зяйнич-ч-чал в моей опоч-ч-чив-в-вальне!…
В этом месте мне всегда вспоминался рассказ одной знакомой, помнившей приезд в Россию мейнингенцев. По ее словам, в сцене заговора в «Юлии Цезаре» Шекспира заговорщики, расходясь, произносили слова: «Гуте нахт, Кассиус!» («Спокойной ночи, Кассий!») При этом они так напирали на три буквы «с» в слове «Кассиус», что получалось впечатление змеиного свиста, зловещего и злодейского. Очевидно, на этих же дрожжах выросли и словесно-буквенные упражнения Рафаила Адельгейма в роли Яго.
Так же, как и в «Отелло», отступал Рафаил Адельгейм от общепринятой (в особенности в провинции) традиции в «Разбойниках» Шиллера. Его Франц Моор не только не был горбат, но и вообще не был внешне уродлив. У него было обыкновенное человеческое лицо, очень бледное, умные проницательные глаза, крепко сжатые губы. В сценах, где Франц лицемерит, Адельгейм делал это не грубо,- наоборот, очень сдержанно, и потому правдоподобно. Братья Адельгейм играли пьесу «Разбойники» в неопубликованной редакции самого Шиллера, со вводными кусками и даже сценами. Великолепно играл Рафаил Адельгейм ночную сцену, где Франца сводят с ума угрызения совести и страх перед возмездием. В этой сцене Рафаил Адельгейм, не прибегая к крику (что было вообще слабостью обоих братьев), создавал впечатление такого ужаса, что зрительный зал буквально цепенел.
Лучшей ролью Рафаила Адельгейма, по моим воспоминаниям, был бен Акиба в пьесе «Уриэль Акоста». Он играл Акибу очень старым, физически дряхлым, но отнюдь не выживающим из ума, не готовым уже выпустить из рук то, что было высшей ценностью всей его жизни. Акиба - Адельгейм был древний старец (грим его, как но всех ролях, был превосходен), но душа его не согнулась, а ум не одряхлел. От возраста своего, от глубокой многоопытности Акиба говорил с Акостой более мягко и милостиво, чем говорили с ним де Сантос и другие раввины. Он столько их видел, этих еретиков! И ничего-то ведь они не добились! Он даже посмеивался над иными высказываниями Акосты. Он столько их слышал в своей жизни! И ничего-то ведь они не изменили! Но при всем этом в Акибе - Адельгейме чувствовалось железное упорство фанатика, и было это упорство не меньшим, а, пожалуй, даже большим, чем у де Сантоса. В такие моменты дряхлый, шамкающий, старчески покашливающий Акиба - Адельгейм распрямлялся, голос его креп, словно помолодев, звучал металлом непримиримости, слепой нетерпимости. Маленькая роль Акибы в исполнении Рафаила Адельгейма вырастала в большую, важную роль. Акиба противостоял Акосте страшнее, непреодолимее, чем де Сантос, ван дер Эмбден и другие.
Совершенной неудачей была попытка братьев Адельгейм играть комедию. Роберт Адельгейм был начисто лишен способности передавать те черты, которые составляют существо Хлестакова: легкость вообще и в частности «легкость в мыслях необыкновенную». В роли Хлестакова он и внешне казался тяжелым, приземистым, слишком плотным и был до горести лишен юмора. Точно так же никогда не приходилось мне видеть такого тяжелого Городничего, как Рафаил Адельгейм. Его Городничий нигде не вызывал смеха, он был утомительно скучен. Братья отнеслись, видимо, к этим ролям с тою же серьезностью, что и к другим своим созданиям, но этого оказалось мало. В бессмертной комедии Гоголя оба трагика выглядели заблудившимися туристами, севшими не в тот поезд и приехавшими вместо похорон на свадьбу.
Характерным для необыкновенной старательности, с какой Адельгеймы работали над своими ролями, для скрупулезной точности, с какой они относились к произносимому тексту и авторским ремаркам, является следующий мелкий случай. В одной из рецензий о «Ревизоре» Роберта Адельгейма упрекнули в том, что в ожидании, пока принесут обед, он якобы насвистывал шансонетку. На это Роберт Адельгейм ответил письмом в редакцию, где признавал свою вину лишь в том, что по своему неумению свистеть нарушает гоголевскую ремарку: он не насвистывает, а напевает с закрытым ртом. В остальном же он свято придерживается гоголевской ремарки; «Насвистывает сначала из «Роберта», потом: «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то». Он, Роберт Адельгейм, играя Хлестакова, именно так и напевал: сперва из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка» и наконец «ни се, ни то».
Неудачной казалась мне всегда игра Рафаила Адельгейма б «Кручине» Шпажинского, Герой «Кручины», Недыхляев, был отголоском ревнивца-лавочника Краснова из пьесы Островского «Грех да беда на кого не живет» с легким налетом «Достоевского для бедных». Эта роль была, видимо, уступкой духу времени, требовавшему нервности, истеричности, неврастеничности, психастеничности,- всего того, чего так много было у буржуазии, переживавшей свой закат. Но у Адельгеймов этого не было и в намеке, в частности, Рафаил Адельгейм был для этой насквозь больной роли слишком явно здоров и крепок. Роль Недыхляева он играл однотонно, уныло, не умея найти в себе, в своей здоровой психике, нужных, созвучных струн. Он чудачествовал, пел петухом, закатывал истерики и впадал в эпилептические припадки,- это было неприятно видеть. В болезнь изображаемого персонажа не верилось, образа человека с обнаженной нервной системой, с интуицией, обостренной патологическим состоянием, не получалось. Должна оговориться, что это - мое впечатление. Роль Недыхляева сам Рафаил Адельгейм считал одной из лучших своих ролей, играл ее в свои бенефисы и имел в ней у публики успех, хотя и далеко не такой горячий и единодушный, как в классических ролях.
Почему же все-таки такие незаурядные актеры, как Братья Адельгейм, с такими исключительно богатыми в широкими знаниями, с такой редкой трудоспособностью, не работали в театрах, как все,- хотя бы посезонно в каждом театре,- а выбрали странный, трудный путь ночного всероссийского гастролерства? Ведь это было, казалось бы, очень нерасчетливо: приезжать в каждый город лишь на несколько спектаклей, не пускать нигде корней, «блеснуть, пленить и улететь», не собрав посеянного урожая, нигде не обретая прочных друзей и товарищей. Даже рецензии выходили в городах уже обычно лишь после отъезда гастролеров и получались ими через столичное бюро вырезок.