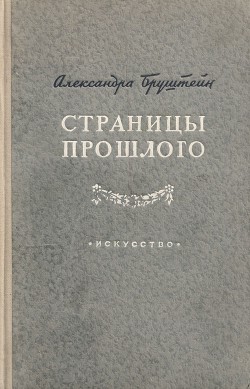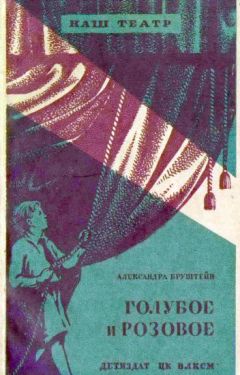Тем не менее в гастролерстве братьев Адельгейм были не только свои причины и свой смысл: в них был и свой несомненный, совершенно правильный расчет.
Конечно, гастролерство это не было вызвано, как у Н.П.Россова, желанием играть всю жизнь только несколько ролей, вернее, нежеланием играть что бы то ни было, кроме этих ролей. Нет, репертуар братьев Адельгейм был несравненно шире россовского. В него входили классические пьесы: «Гамлет», «Отелло», «Шейлок», «Король Лир», «Король Ричард III», «Эдип-царь» Софокла, «Смерть Иоанна Грозного» А.Толстого и его же «Дон Жуан», «Фауст» Гете, «Ревизор», «Разбойники», «Уриэль Акоста» и др. Кроме того, они играли «Кина», «Кручину», «Мадам Сан-Жен», «Трильби», «Казнь», «Новый мир» Баррета, «Пляску семи покрывал», «Марсельскую красотку» Бертона, «Паоло и Франческу», а также пьесы Рафаила Адельгейма «Высокие волны» и «Маэстро дель бельканто». Как уже сказано выше, в сезон 1903/04 года, когда они, в виде исключения, служили в Петербурге в «Литературном театре» Некрасовой-Колчинской, они сыграли несколько новых для себя ролей в репертуаре этого театра, в том числе такие далекие от облюбованного ими репертуара «плаща и шпаги», как «пиджачные роли» в пьесе Протопопова «Две страсти» и «сермяжная роль» Петра во «Власти тьмы».
Вероятно, таких эпизодически игранных ролей у них было и больше, но я этого не видела: после русско-японской войны и революции 1905 года братья все реже приезжали в Петербург, все более утверждаясь в провинциальном гастролерстве. Возможно и так, что они приезжали, но я уже не ходила смотреть их.
Таким образом, братья Адельгейм были гораздо гибче, живее и творчески любознательнее, чем Россов, и не умещались в той исключительно узкой скорлупе, в какую всю жизнь замыкался он. Эту гибкость н творческую любознательность они проявляли даже в пределах своего постоянного классического репертуара. Здесь они иногда менялись ролями: например, Рафаил Адельгейм иногда играл роли Роберта - Отелло, Гамлета (в этих спектаклях Роберт Адельгейм играл Тень отца), случалось им осваивать в этом старом репертуаре новые роли: в одном только «Гамлете» Роберт играл, кроме Гамлета и Тени отца, еще иногда и Лаэрта и Могильщика, а в «Фаусте» он же играл Валентина.
Что же гнало этих своеобразных актеров всю жизнь из Сибири в Прибалтику, от Черного моря к Тихому океану, из Самарканда в Бердичев, из Мозыря в Жиздру и Владикавказ? Некоторое объяснение этому дают отчасти те роли, которые братья Адельгейм создавали самостоятельно, никого не копируя: ни одна из этих ролей, кроме Годды, не принесла им выдающегося успеха. Ни в одной из этих ролей они не поднялись выше того, что давали в те годы в этих же ролях очень многие другие талантливые актеры. Если бы Адельгеймы не гастролировали, а играли в театрах оседло, они понемногу растеряли бы свой классический репертуар. Он растворился бы в том пестром репертуаре, в котором они вынуждены были бы играть, а братья оказались бы, вероятно, в конце концов обыкновенными хорошими, культурными актерами, любимыми и почитаемыми в провинциальном масштабе. То же обстоятельство, что они всю жизнь непрерывно разъезжали, поднимало их над другими актерами, прежде всего потому, что давало им возможность непрерывно утверждаться в своем репертуаре, отделывая, шлифуя его постоянно, и несло им всероссийскую известность.
В провинциальном виленском театре я видела в роли Отелло Ф.А.Норина, в роли Гамлета - Л.М.Добровольского. Это было хуже, чем у Адельгейма, но главным образом потому, что было не так разработано, было несколько неуверенно, даже робко; ведь пьесы были сыграны, вероятно, с одной-двух репетиций и повторены не больше нескольких раз в сезон. Думаю, однако, что имей эти провинциальные актеры возможность так «выграться» в роли, как Адельгеймы, они играли бы их, наверное, не хуже. В том же виленском спектакле «Отелло» я видела в роли Яго отличного актера Мурского, и он играл, по моим впечатлениям, лучше, чем Рафаил Адельгейм. Замысел Мурского был тоньше; его Яго был злой, завистливый, честолюбивый и беспринципный человек, но настолько умный, что ему не было надобности надевать личину: он умел и без того скрывать свои истинные чувства. Это было сделано интереснее и талантливее, чем мимикрия Яго - Адельгейма, к тому же заимствованная, как говорили, у Эрнста Поссарта.
Современные Адельгеймам гастролеры, игравшие те же роли,- Мамонт Дальский, П.Н.Орленев, а также П.В.Самойлов, часто гастролировавший по провинции, и другие - были значительно талантливее и ярче братьев-трагиков. Но гастролерство уравнивало Адельгеймов с этими крупнейшими актерами. Гастролерство же поднимало Адельгеймов выше лучших провинциальных актеров того времени, хотя превосходство Адельгеймов над этими актерами было, по существу, не очень значительно.
То особое и несомненно привилегированное положение в русском театре, которым пользовались гастролеры, было, вероятно, одной из причин, почему братья Адельгейм избрали именно эту форму служения театру. Не думаю, чтобы тут действовал сознательный расчет, то есть понимание, что, идя обычными актерскими путями, они не добьются большого положения и громкой, широкой славы. Нет, Адельгеймы знали себе цену и считали, что они имеют право на гастролерство. Они приняли этот путь со всеми его трудностями и беспокойной некомфортабельностью, но и со всей той всероссийской славой, которую он им принес.
Но была, думается мне, еще и другая, и тоже вряд ли сознаваемая ими причина, толкавшая братьев Адельгейм на гастрольную систему работы. Причина эта лежала в той ложноклассической школе, представителями которой они оставались всю жизнь, и в ее растущем расхождении со все более укреплявшимися реалистическими основами русского театра. Когда Адельгеймы приезжали куда-нибудь всего на несколько гастролей,- а так было почти во всех городах, - зритель смотрел только на них, гастролеров, замечал только их. И это было правильно потому, что они играли - одни. Остальной антураж их представлял собою те опилки, среди которых укладывают в бочки и ящики экспортируемый виноград. Партнеры Адельгеймов подавали реплики, они обозначали собою те места, где в хорошем ансамбле надлежит быть остальным персонажам. Во всяком большом и хорошем оседлом театре начала века это уже было невозможно: везде уже создавался ансамбль, было стремление создавать спектакль как целостное театральное произведение. В таких театрах далеко не всегда были отдельные исполнители, равные Адельгеймам, но был спектакль, а этим адельгеймовские выступления похвастать не могли. Играть в таких ансамблях было бы Адельгеймам, вероятно, трудно, если даже не совершенно невозможно,- с этим оказались бы в непримиримом противоречии их школа, их навыки и приемы, и прежде всего понимание ими своего места в спектакле.
Сегодня, перевидав в адельгеймовских ролях многих исполнителей, я вспоминаю Адельгеймов без особого восторга. Рядом с Гамлетом Качалова, Отелло Хоравы, Акостой и Отелло Остужева, конечно, потускнели образы, созданные Адельгеймами.
Это, однако, нисколько не должно умалять уважения к братьям Адельгейм. Они были талантливые актеры, хотя и чужой нам школы. Вместе с тем это были люди такого прекрасного трудолюбия, такой фанатической любви к своему делу, что они остаются и сегодня высоким образцом, достойным подражания. А то, что в течение сорока лет, из них двадцать четыре года в царской России, они разносили культуру театра в самые отдаленные углы огромной страны, составляет их большой и ценный вклад в дело русского театра.
П.Н.ОРЛЕНЕВ
У виленских зрителей, как, вероятно, и во всех других городах, был свой неписаный кодекс хорошего тона в отношении приема гастролеров. Первое появление гастролера в каждом спектакле обязательно встречалось громом аплодисментов. Зрительный зал, вероятно, сгорел бы со стыда, если бы он вдруг случайно прозевал этот первый выход гастролера, не воздав ему должного по театральной табели о рангах. Иногда это даже приводило к курьезам. Так, В.П.Далматов обычно включал в свой гастрольный репертуар одноактную пьесу Тургенева «Провинциалка», где он играл роль старого бонвивана графа Любина. Зритель видел волнение в доме провинциального чиновника Ступендьева, где ждут приезда графа. Раздается звонок,- все персонажи замирают, не спуская глаз с входной двери: вот он, граф Любин! И когда на сцену выходит высокий, осанистый, хорошо одетый человек чванного вида, зрительный зал разражается бурей рукоплесканий в честь гастролера. Но, как полагается по пьесе, это явился не сам граф, а всего лишь его лакей! Можно себе представить самочувствие того выходного актера, который играл почти бессловесную роль лакея, и смущение зрителей, когда они убеждались в своей ошибке.