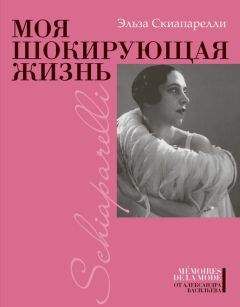Ознакомительная версия.
В Принстоне у меня был большой друг, Дональд Майкселл, он обитал один на соседней вилле, долго прожил во Франции и приехал в этот тихий университетский город, чтобы укрыться от бушующего снаружи ада. Его единственная прислуга, гигантская кухарка-негритянка, меня обожала, давала советы по поводу моды, а по ночам ей снились блюда, которыми она станет кормить меня на завтрак. Однажды мы сшили свадебное платье для маленького бассета, блестящие безделушки и воздушную фату купили в магазине твердых цен. Фата самым прекрасным образом тянулась за бассетом, и свадьба удалась. Это был единственный случай в тот смутный период моей жизни, когда я сотрудничала в создании платья. Большинство вечеров, часто длившихся до рассвета, я проводила на этой вилле. Мы с Дональдом испытывали необходимость общаться по ночам, не думая о времени. Я научилась вязать крючком и связала огромное число разноцветных салфеточек, но никогда мне не удавалось справиться с вязальными спицами. Затем Дональд потерял во Франции единственного сына, и эта смерть стала началом его конца.
Одним из моих соседей был Эйнштейн, но я с ним не познакомилась, он выглядел таким неприступным. Часто наши пути пересекались, когда мы бесцельно бродили по окрестностям. Этот высокий человек с седыми кудрями, развеваемыми ветром, ходил быстро, не замечая, что его окружало, следовал за своими мыслями, подобными для него нитям Ариадны, – мыслями невидимыми, но для него, без сомнения, ощутимыми. Я обожала фермы в окрестностях Принстона: такие прекрасные, ухоженные, они напоминали мне фермы Новой Англии с зелеными пастбищами, маленькими домами, уютно обставленными мебелью красного дерева, с их старым обойным ситцем и разноцветными покрывалами, с безукоризненно чистыми ванными комнатами, где все краски сочетались друг с другом, вплоть до мельчайших деталей. Обычно портреты членов семейства были собраны в определенном углу – нигде больше я не замечала такой сильной традиции и культа предков; это глубокое чувство, огромная гордость прошлым отражены в языке самых простых людей. Весь Принстон купался в сентиментальной атмосфере, и война казалась чем-то нереальным. Люди в церкви одевались очень строго, а отбор в гольф-клуб был более серьезным, чем в «Боттен-монден», и таверны в большей степени казались тавернами, чем в Йоркшире.
Иногда приезжала Гого и проводила со мной несколько дней, она казалась нервной и взволнованной. Отъезд Берри превратил ее в одну из многих молодых жен военных, они бесцельно бродили там и тут, еще недостаточно закаленные, чтобы противостоять жестокой реальности судьбы, сознавая лишь, что их прежняя жизнь жестоко нарушена. Чтобы быть ближе к ней и не оставлять ее слишком часто одну, я переехала в город и сняла комнату в маленьком отеле. Мне больше совсем не хотелось жить во дворцах, где останавливалась до войны. При одной мысли, что встречу какую-нибудь группу беженцев, купающихся в роскоши и экстравагантности, «хорошо проводящих время, чтобы забыться», как они любили говорить, я чувствовала себя не в своей тарелке и буквально заболевала. Некоторые из них – хорошие друзья, другие были безразличны. Мы не можем заставить людей разделять наши неприятности и требовать от них чего-то большего, чем сочувствие. Тем не менее многим из них следовало бы из чувства приличия оставаться в тени. Вместо этого они жили только для удовольствий и удовлетворения своих желаний, время от времени роняя каплю милосердия, но тратя на себя гораздо больше денег и тем самым подавая разрушительный пример. В больших ресторанах и на премьерах постоянно слышалась французская речь, иногда с иностранным акцентом, – без сомнения, интернациональный язык космополитического общества Нью-Йорка в те времена.
По большей части я проводила свои вечера одна за чтением или в компании старых друзей, преимущественно американцев, в основном живших раньше во Франции или в Италии. Мы обедали в маленьких, скромных ресторанчиках, предлагавших в Нью-Йорке смесь интернациональных меню. В конце концов, разве еда не международный язык? Мы ходили в Чайна-таун и, вспоминая прошлое и мечтая о будущем, пробовали традиционно приготовленные блюда – поистине пищу богов. Я обедала с любезным Джеком Барретом, верным другом прежних времен, теперь в свободное время он помогал Франции и развлекал нас, всегда вежливый, любил спор и шутки, обладал тонким умом и колебался, принимая решения. На самом деле он ненавидел их принимать даже в самых безобидных случаях и как можно дольше откладывал этот момент. Типичный пожилой американец, он вел себя как двадцатилетний юноша. Помню, однажды вечером Джек пожаловался мне, что знаменитая коллекция доктора Барнса[145] в Филадельфии не будет открыта для публики.
Доктор Барнс разбогател и превратил свой капитал в прекрасные картины, владел, по его словам, двумястами пятьюдесятью полотнами Ренуара. Как и все остальные сокровища, он прятал их в музее, и лишь несколько студентов Школы изящных искусств туда допускались.
– Однако доктору Барнсу известен ваш интерес к культуре и искусству, вас он, несомненно, пригласит, если вы попросите? – задала я вопрос Джеку.
– Нет, – ответил Джек, – он этого не сделает.
Мы выпили еще несколько бокалов, и я спросила:
– На сколько заключим пари, что он меня пригласит?
– Вы с ума сошли! – сказал Джек.
– Посмотрим! – И я потащила его в ближайшее почтовое отделение.
В два часа утра я послала такую телеграмму: «Доктор Барнс, Вселенная летит к чертям. Я хочу увидеть ваши картины. Скиапарелли». В тот же день, рано утром, пришел ответ: «Приезжайте немедленно. Барнс». В тот же день я не могла поехать, немного заболела Гого, но на следующий отправилась туда; меня тут же приняли в его доме, но я не увидела самого доктора Барнса. Переполненная красотой его коллекции, я остановилась перед какой-то картиной, и через двадцать минут рядом со мной оказался доктор Барнс, веселый и довольный. Очевидно, он следил за своими редкими посетителями через отверстие в стене и, когда не видел у посетителя интереса к коллекции, приказывал вывести его без объяснений. Он все время оставался рядом со мной, подарил экземпляр своей книги о Ренуаре и умолял приезжать еще.
Тем временем мисс Морган открыла столовую для французских моряков. Многим из них удалось покинуть Францию на своих кораблях, некоторые приплыли из Северной Африки, и все рвались в бой. Столовая напоминала парижское бистро, Жан Паж декорировал стены видами парижских улиц.
Заведение закрывалось поздно и стало гаванью для моряков. Большинство из них не говорили по-английски и здесь чувствовали себя как дома. Актеры, актрисы – Аннабела, Жан Габен, Марлен Дитрих – приходили, чтобы развлечь их. Однажды Марлен, разозленная, что на нее разинув рот смотрят все женщины, громко произнесла: «Я прихожу сюда, чтобы встретиться с моряками, а не с женщинами!»
Ознакомительная версия.