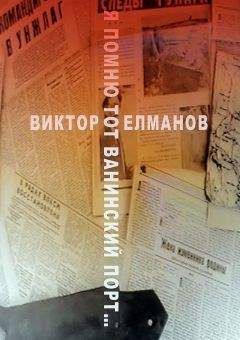Однажды, когда я еще работал в Эрмитаже, он позвонил мне — перед этим, так получилось, мы несколько лет не виделись. Он позвонил и начал рассказывать, что теперь рисует. Я удивился, потому что раньше не замечал за ним этого греха. А он продолжает: «Я начал работать из-за тебя! Лежал в больнице, было очень скучно, делать было нечего, так я начал шариковой ручкой рисовать одежду, висящую на вешалках. И знаешь, хорошо получилось, я потом даже участвовал в двух выставках — на Невском и в ДК Газа». Я говорю, что как раз на этих выставках не был — не получилось по каким-то причинам. А он отвечает: «Приходи ко мне в мастерскую на Васильевский». Мне, конечно, было неохота — я вообще не самый легкий на подъем человек. Но согласился, пришел — типичная мастерская художника. И вдруг я увидел замечательные работы, чудеснейшие, красивые, очень трогательные. И вдруг задумался о себе — стал вспоминать какие-то свои воркутинские почеркушки и так далее. Получилось, что он подтолкнул меня снова начать работать, писать. Кроме того, у нас возобновились отношения, что было очень приятно.
После того как он умер, мы ездили к его жене Нинке — в Союзе она преподавала детям рисунок, была большим специалистом по Сомову. Очень интересный и симпатичный человек.
С этим Борькой произошла очень интересная история. Он долго не мог уехать, ему все время отказывали по каким-то нелепым причинам или вообще без причин, как это обычно бывало в Советском Союзе. Потому что нельзя же было допустить, чтобы человек взял и уехал просто так. Пускай еще помурыжится пару лет. Если кто-то может проявить какую-то микровласть, он это обязательно использует. И по сей день так. Очевидно, это пройдет только с исчезновением всех советских людей независимо от их национальности. А пока они все не вымрут, это не исчезнет. Но Борька все-таки уехал в 1977 году, и в 1988-м, уже при Горбачеве, он смог приехать сюда с туристской группой. А до того его не пускали, даже на похороны матери не пустили. И вот он приехал туристом, пробыл тут три дня и умер. Вернулся… Его похоронили с родителями, на еврейском кладбище. Может, он по-своему и счастлив.
Пусть это прозвучит нескромно, но я люблю все свои работы. Не все из них шедевры. Более того, есть вещи, которые я сейчас, спустя годы, не стал бы делать. Но они для меня не менее важны, чем остальные.
Вот, допустим, «Банальная дорога» — в ней, по словам уже упоминавшегося в этой книге Коли Благодатова, есть нерв. В «Дороге» он есть. Пусть это снова прозвучит нескромно, но мне хочется верить, что нерв есть в каждой моей работе. Возможно, меньше всего его в «Башне» — я ее рисовал уже после того, как видел ее вживую и она меня разочаровала. Она настолько хорошо сохранилась, хоть и была побита снарядами и разграблена жителями, что в ней нет того, что я для себя определяю словом «ухнализм». Начав ее делать, я почувствовал это и прервал работу, потому что личная неудовлетворенность перевешивала все остальное. А «Банальная дорога» получилась, хотя мне, честно говоря, сейчас в ней нравятся только елки. В ней не совсем тот характер, которого мне хотелось. Дело в том, что в душе я документалист, и все свои вещи я пытаюсь основывать на документальности. Потому что она не просто узнаваема, она еще и хорошо убеждает.
Картина «Где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам — колеса, колеса, колеса» существует в двух экземплярах. Первым экземпляром был этюд, и я не представляю, где он может находиться. Этюд был куплен в самом начале перестройки одной фирмой, которая была первой ласточкой российского коллекционирования, хотя ничего не коллекционировала, а сразу перепродавала куда-то. А потом я сделал повтор той картины, большего размера, немного изменив. Картина родилась очень странно, как и большинство моих вещей, — мгновенно, словно пот прошиб. Мы ехали из Севастополя, сели на поезд под вечер и проехали совсем чуть-чуть, минут десять. Потом поезд замедлил ход, проезжая между какими-то составами: грязные вагоны, на которых мелом и краской был нанесен миллион надписей. И в этот момент в моей памяти возникла одна деталь: фильм Анджея Вайды «Пейзаж после битвы» про лагерь, который освободили и в котором бывшие заключенные продолжают жить под охраной американцев. Потрясающий фильм, который я видел на каком-то просмотре, поэтому перед показом выступали киноведы. И один из них, поляк, сказал: «Не уходите, как только кончится фильм, досмотрите титры». И вот, когда фильм закончился и пошли титры, на экране возникла вереница вагонов, и на каждом вагоне была написана фамилия актера из фильма. Именно эти вагоны возникли у меня в памяти в поезде из Севастополя. И сразу началось какое-то развитие — должен быть ритм, то есть не одно полотно, а три: первая война, вторая война, лагеря. Появилась некая концепция, хотя я очень не люблю это слово. А название я взял из Галича, во-первых, в благодарность за то, что этот человек жил, и за его творчество.
А во-вторых, эта фраза написана в том же ритме, в ней есть то же тройственное повторение.
Солнечное голубое небо, на фоне которого развивается трагический сюжет, появилось из-за того, что я не люблю пугать зрителя, кроме тех случаев, когда это логично. Более того, я практически никогда не думаю о реакции зрителя, не рассчитываю на нее. Возможно, это прозвучит выспренно, но я работаю только для себя. И практически никогда не отвечаю на вопросы типа «что вы хотели этим сказать?». Что хотел — то и сказал. А выставки мне нужны только для того, чтобы заявить — я есть, я существую. Однажды произошел интересный случай — на какую-то из первых выставок ТЭИИ не пришли зрители. Мы собрались небольшой группой, в которой многие не знали друг друга, и началась страшно заумная критика. В частности, про мои работы сказали, что это «задники для какого-то скетча». И больше я этих людей никогда не видел. Конечно, было немного обидно, хотя сидящие рядом тыкали меня локтями: «Да брось, плюнь, не обращай внимания на этого мудака». Да я, в общем-то, и не обращал.
Я никогда не завидовал. Если мне что-то нравилось, я вставал на расстоянии в десять сантиметров и рассматривал, как это сделано. Я вычитывал свое — то, что мне нужно. Пусть это прозвучит смешно, но я продолжаю учиться и сегодня. И сейчас, бывая на выставках и встречая работы, которые мне нравятся, останавливаюсь и начинаю в них всматриваться сантиметр за сантиметром: какой он кистью это сделал, каким цветом, какой химией красок. И то же самое происходит со старыми мастерами.
Еще одна важная картина, «Знак беды», тоже родилась мгновенно. Когда мы бывали в Киеве, мы обязательно ездили в село, где жила Наташина тетя и где Наташа провела детство. Мы всегда доезжали до Березани на электричке, а там садились на автобус. В эти дикие автобусы набивался народ с мешками, причем все друг друга знали. Шум, гам, едва удавалось протиснуться. И недалеко от станции Березань стоял этот знак. Там уже не было ни дороги, ничего, только трава и этот печальный знак, оставленный здесь зачем-то на века десятилетия назад. Моя картина — попытка вспомнить. Я долго думал над названием, размышлял. Этот знак стоит на переезде и предупреждает об опасности, но он находится в таком состоянии, что уже ни о чем не способен предупредить. Картина о бессмысленности существования этого знака. А потом я читал чудесного белорусского писателя Василя Быкова и случайно наткнулся на эти слова — «знак беды». Нечто полезное, предупреждающее, приходя в такое состояние, становится как раз тем самым знаком беды.