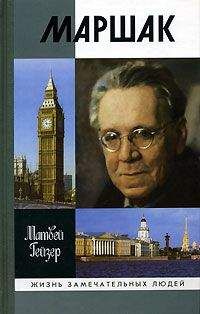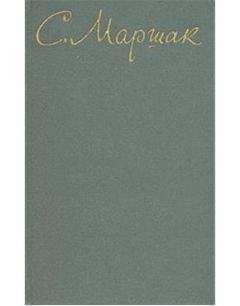Петербург, который я на первых порах увидел как бы "с черного хода" - с грязного, мрачного, оглушительно-шумного третьего двора на Забалканском проспекте, - повернулся ко мне парадной своей стороной,
Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже, по где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущности, это было тоже работой может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.
У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских "художников" (так называли тогда в Петербурге молодой Художественный театр), о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор.
Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал: в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью придают ему ученый, профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, что привело этого генерала в художественный отдел библиотеки.
- А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич, - говорит генерал.
- Цезарь не просит, а повелевает, - с веселой готовностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах - это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той "Могучей кучки", о которой мне так много рассказывал Владимир Васильевич.
Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми перьями. Известная пианистка, она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет, - да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.
Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом.
Другая дама, которая приходит вслед за первой, - ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия. Поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.
Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым сивым волосом - бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине.
Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, словно магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов.
***
А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном, великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове!
Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил меня сюда Владимир Васильевич - сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей-художников.
Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с Четвертой линии. В сумрачном, высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов.
Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, что представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по Эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уже перед глазами у меня встает небольшая, стройная фигура, в которой тем не менее угадывается огромный рост и повелительная сила человека в Преображенской треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая, зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий, величавый образ.
А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры.