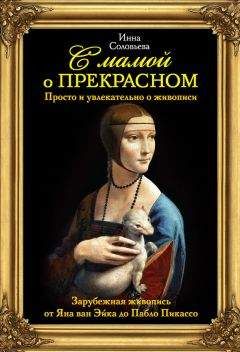В Хорта Пикассо работает увлеченно и даже ожесточенно. То, что другие называют «каникулами», для него превращается в период самой интенсивной работы. Кроме серии пейзажей в Хорта он рисует головы женщин, уточняя свой стиль и утверждаясь в нем.
Когда поздней осенью он возвращается в Париж, грани на его картинах уже не образуют единую и слепленную массу, они входит друг в друга и кажется, что они преломляются на наших глазах. В «Женщине и чашке с горчицей», например, рот модели опущен вниз, а его углы усиливают очевидное состояние усталости и изнеможения, подчеркиваемое еще и преобладающими серыми и коричневыми тонами; единственное цветное пятно на картине — зеленый занавес (галерея Розенгарт, Люцерн).
Картина эта очень близка к единственной известной скульптуре Пикассо этого периода: голова женщины с пустыми глазницами, вся из острых углов, свет и тень распределяются на ней самым захватывающим образом. В то время Пикассо искал способ выразить свое новое видение мира, он предпринимает в этом направлении множество экспериментов, однако, несмотря на некоторый успех, скульптурное выражение его явно не удовлетворяет, во всяком случае, он оставляет занятия скульптурой на многие годы
В живописных же опытах распад форм продолжается в таком темпе, что за ним трудно уследить. В «Обнаженной» (московский музей), написанной в том же году, что и «Королева Изабо», единственное, что есть схожего с «Королевой», — это зеленый цвет кресла. «Падающие» грани лица увлекают его черты за собой, вверх или вниз. Охра превращается в почти кирпичный цвет, а серый с сиреневатым отливом — любимый цвет пейзажей, написанных в Хорта.
Переходный период заканчивается вместе с «Сидящей женщиной» (коллекция Жоржа Салля). Отныне человеческое тело разбито на кубы, разрублено на грани, оно увлечено в какое-то немыслимое головокружительное движение, его начинают сравнивать с калейдоскопом. Родилась новая художественная эстетика. Иногда еще Пикассо будет отступать от своей новой манеры, будет писать по-прежнему «читабельные» полотна, но вскоре само это слово приобретет в устах Пикассо характер ругательства, когда речь будет заходить о живописи.
Итак, кубизм утвердился. Этой же зимой Пикассо пишет «Портрет Жоржа Брака» (коллекция Фрэнка Кроуниншилда, Нью-Йорк). Отрицание здесь различимой формы приобретает силу манифеста.
То самое время, когда вместе с Браком он приступает к совершению величайшей художественной революции нашего времени, ознаменовалось и переменой в его личной жизни. Бато-Лавуар с его порочной богемной жизнью принадлежит прошлому, и это прошлое отделяется от него, как созревший плод, упавший с ветки. И несмотря на то, что иногда он еще сюда возвращается, несмотря на то, что здесь остается множество его друзей, с его отъездом Холм теряет свою исключительную атмосферу. Отсутствие комфорта и живописность существования уходят из его жизни.
Желая еще более усилить контраст между своим прошлым и настоящим, Пикассо выбирает себе самое что ни на есть банальное жилище, не идущее ни в какое сравнение с Бато-Лавуар. Он поселяется в доме № 11 на бульваре Клиши. Дом этот принадлежит некоему господину Делькассе, который в нем же и живет. Окна большой мастерской выходят на север, а окна самой квартиры — на юг, на улицу Фрошо. До сих пор Пикассо готов был удовлетворяться наличием лишь самых необходимых вещей, поэтому теперь ему и Фернанде почти нечем обставить свое новое жилище. Они привезли с собой лишь матрац, круглый складной стол и бельевой шкаф из белого дерева. По такому случаю родители Пикассо прислали ему немного прекрасной старинной мебели с инкрустацией. Впервые за всю свою жизнь Пикассо может позволить себе бродить по магазинам и покупать вещи, которые ему нравятся. Для спальни он покупает низкую кровать с тяжелыми медными перекладинами. В столовой с видом на верхушки деревьев появляется огромный — во всю стену — буфет из вишневого дерева. Появляется у него и мебель красного дерева, в основном это кресла. Все это загромождается медными, оловянными и фаянсовыми изделиями, которые он скупает у торговцев на Холме. В нем внезапно проснулась страсть коллекционера, предметы привлекают его странностью формы или тем, что в его квартире они будут казаться совершенно лишними. Именно это чувство и побудило его купить маленький орган красного дерева, на нем никто не умеет играть, но если привести в действие мехи, по комнате распространяется ощутимый запах ладана. Пикассо хранит все эти вещи, он привязывается к ним, как можно привязаться к человеку. Фернанда вспоминает большую картонную коробку из-под шляпы, в которой у Пикассо хранились галстуки всевозможных расцветок из разных тканей. Он хранил их годами, ни за что не желая с ними расстаться.
Мастерская относится к его личным владениям. Никто не входит туда без его позволения. «Подметать там не разрешалось, — вспоминает Фернанда, — при подметании поднималась пыль и оседала на полотнах, а это приводило его в бешенство». К его сугубо личным вещам относятся и негритянские маски, висящие на стенах, в промежутках между кусками старых ковров и гобеленов, особенно он привязан к одной маске, изображающей женское лицо, окрашенное в белый цвет. Ему и только ему принадлежат разбросанные повсюду гитары и мандолины, о которых Пикассо говорил, что сначала он их изображал на своих картинах, а уже потом покупал и разглядывал.
Он — единственный хозяин своих животных. Их присутствие ему также необходимо, как и присутствие женщины. На бульваре К лиши живут собака Фрика, три сиамские кошки и обезьянка Моника.
Своеобразная атмосфера, царившая на бульваре Клиши, эта наконец утоленная тоска по безопасности в сочетании с противоречиями, свойственными Пикассо, отражается на двух моментальных снимках, сделанных с интервалом в несколько месяцев. На одном Пикассо одет в форму сержанта французской армии. Форма принадлежит Браку, который пришел повидаться с Пикассо, когда проходил службу. Пикассо, оставшийся испанцем на чужой земле, так и не рискнул надеть военную форму, однако в тот день ему, видимо, пришла фантазия посмотреть, как он будет в ней выглядеть, и, главное — как он себя в ней почувствует. Он сидит, низко надвинув на лоб фуражку; кажется, что он лишился своей индивидуальности. Быть может именно эту потерю индивидуальности он и хочет запечатлеть.
На второй фотографии он сидит на обитой велюром софе с одним из своих сиамских котов на коленях. У него округлившееся лицо, в нем ощущается некоторая неловкость, быть может, из-за того, что он одет по-зимнему и чувствует себя немного скованно. Это не тот Пикассо, к которому привыкли его друзья, — мрачный и сардонический. Наоборот, он кажется даже довольным, как кот, которого гладят ласковые пальцы.