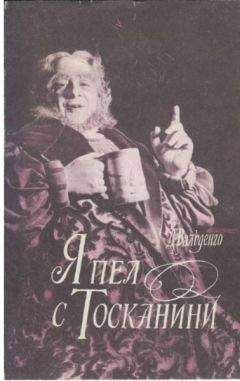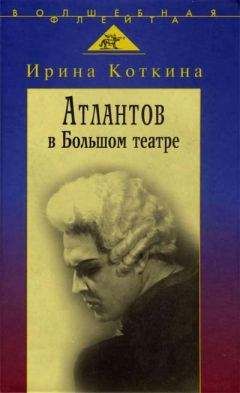И в общении с близкими он был застенчив. Бывали, конечно, и дома вспышки гнева, но как только представлялась возможность, он старался уйти и никого не беспокоить.
Другая сторона в характере Тосканини — строгость к самому себе: он был придирчив не только к чужим промахам, но главным образом к своим ошибкам. Личия Альбанезе (сопрано) рассказывает такой случай:
«Всякий раз, когда я пела у него дома, сердце мое отчаянно билось. В Ривердейле мы вместе работали над „Травиатой“ и „Богемой“. И он говорил мне: „Знаешь, этот пассаж плохо звучал, когда мы передавали оперу по радио“. — „Но почему, маэстро?“ Он садился за рояль и играл. „Вот такой был темп, такой“, — показывал он. Он критиковал самого себя, о чем слушатели никогда и не подозревали. Он повторял „Творить надо бесконечно, я никогда не бываю доволен результатами своей работы“».
Когда Тосканини ошибался, он признавал это с большим смирением. Эцио Пинца рассказывал дирижеру Юджину Орманди об одном эпизоде в «Ла Скала»:
«Что-то, по-видимому, произошло, и это вывело его из себя, потому что все мы заметили, как он, дирижируя, повторял про себя: „Позор! Позор!“ И чем громче он говорил „Позор!“, тем сильнее мы пугались. Это сказывалось и на пении: каждый из нас допустил какую-нибудь ошибку. Когда акт закончился, все мы собрались в одной из комнат за кулисами, спрашивая друг у друга, кто в чем виноват. Вдруг дверь резко распахнулась, вошел маэстро: „Позор вам, вам и вам“, — сказал он, показывая на каждого из солистов. Мы опустили головы. Но секунду спустя дверь снова раскрылась: „Позор и дирижеру!“ — гневно крикнул маэстро и захлопнул дверь».
Вот каким запомнился Тосканини самому простому человеку, не имеющему прямого отношения к искусству, швейцару театра «Ла Скала» Антонио Педолли:
«Каждое утро маэстро приезжал в „Ла Скала“ в десять или в половине одиннадцатого, в зависимости от начала репетиций. Он приезжал даже раньше времени, потому что был очень пунктуален, и приезжал всегда один. Он постоянно носил черный костюм одного покроя и одну и ту же шляпу с полями, немного приподнятыми по бокам. Шляпу он надевал всегда прямо. В первые годы он ездил на коляске и поручал мне расплачиваться с извозчиком; иногда он сердился, потому что извозчик, по его мнению, вез не той дорогой, выбирал более длинную, чтобы побольше заработать, в такие дни он входил в театр ворча. В своей уборной он снимал пиджак и надевал другой, более легкий, который носил на репетициях. Он был очень вежлив со всеми, но в оркестре делался совсем другим — таким, кого все боялись и обожали, потому что это был Великий Маэстро.
Потом, во время перерыва, он возвращался к себе в уборную и перекусывал немного; он часто завтракал в театре и никогда не интересовался, что ему приносят поесть. Его секретарше (или еще кому-нибудь) приходилось напоминать о еде, иначе он совсем не вспомнил бы о ней и продолжал репетицию не позавтракав. Он никогда не уставал, хотя работал очень напряженно. Он жил искусством, всегда жил искусством… дома занимался, в театре работал, дома занимался… и так без конца».
Интересно и свидетельство синьоры Манолиты Долгер, председателя итальянского туристского общества в США:
«Вилла „Паулина“ в Ривердейле — это типичный особняк состоятельного американца. Построена она в начале 1900-х годов. Комнаты просторные, с очень высокими потолками… Там, где находилась половина Тосканини, имелся большой подъезд, а за ним салон с широкой лестницей, ведущей на второй этаж. Тосканини помнил, сколько в ней ступенек (мне кажется, 32), он не хотел, чтобы кто-нибудь помогал ему подниматься и спускаться по лестнице. Я никогда не видела его с палкой, даже в последние годы.
Во время войны американцы предоставили ему полную свободу действий, хотя он всегда был итальянским подданным и патриотом, даже слишком итальянским, я бы сказала! Он постоянно следил за событиями в Италии и в трудные моменты старался помочь ей. Он регулярно организовывал благотворительные концерты для итальянцев. Например, в 1951 году, после наводнения на реке По, он всего за десять дней подготовил вечер, который имел огромный успех, и собрал очень большую сумму. Достаточно сказать, что ложи продавались по 200, 300, 500 долларов, а в то время доллар, конечно, ценился гораздо больше, чем сейчас!»
Все, о чем мы говорили здесь, все эпизоды, свидетельства и высказывания, конечно, не могут создать полного представления о многогранности характера маэстро. Это лишь мозаика деталей, которые с разных сторон раскрывают личность дирижера.
Но если даже не вдаваться в подробности, а посмотреть на то, что он сделал и сколько он сделал, послушать записи, оставленные поколениям, которые придут вслед за нами, станет ясно, что его характер и поступки рождаются из глубокой и неуемной любви, которая воспламеняла его с детства до глубокой старости, вплоть до смерти, — из любви к музыке. Он с радостью шел навстречу музыке, но счастье выпадало не каждый день, ибо совершенство, к которому он стремился, ему приходилось завоевывать в постоянных страданиях, в изнурительной борьбе с косной средой, с воинствующей посредственностью, с людьми, которые не горели столь же страстно, как он. Его характер был порожден этой страстью: недовольство, вспышки гнева, нетерпимость, какими отмечены его необычайно напряженные дни, — яркое тому доказательство. И в самом деле, когда его строгая совесть отмечала, что совершенство достигнуто, лицо светлело, морщины разглаживались, исчезала озабоченность и появлялось выражение удовлетворенности от сознания верного и самозабвенного служения музыке. (…) Искусство Тосканини будет жить всегда, потому что оно рождено любовью.
Бюст Тосканини
Д. Вальденго в Александрии (1937)
Д. Вальденго, М. дель Монако и Р. Фаринотти
Парма, 1943
Д. Вальденго в роли Марселя (Пуччини. «Богема»)
Парма, 1942
Д. Вальденго в роли Валентина (Гуно. «Фауст»)
Парма, 1942
Д. Вальденго в роли Амонасро (Верди. «Аида»)
Мехико, 1948
Д. Вальденго в роли Тонио (Леонкавалло. «Паяцы»)
Нью-Йорк, Метрополитен-опера, 1947
Д. Вальденго в роли Шарплеса (Пуччини. «Чио-чио-сан»)
Кабинет А. Тосканини
Нью-Йорк, Ривердейл,1947
А. Тосканини
Фотография, подаренная Д. Вальденго на память об исполнении «Аиды» в Эн-Ви-Си. Нью-Йорк, 1949