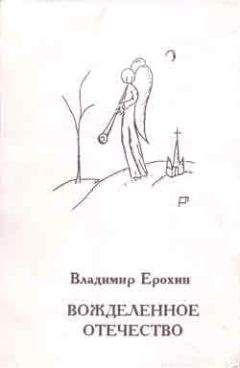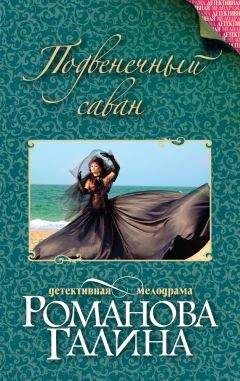— Борис Антонович, соберите нас, пожалуйста, — попросил плановик Старуханов.
Полковник Морозов, кося одним глазом, как бы прицеливаясь, скользнул в кабинет, сделал реверанс одной ногой, быстро шагнул в Корчагину, протянув обе руки, склонясь, пожал протянутую вялую ладонь и отступил, качнувшись затылком и всем корпусом назад.
— Здрассте, Борис Антонович! Как самочувствие? Корчагин кисло улыбнулся, махнул рукой: дескать, стоит ли о таких пустяках?
— Я вас вызову. ...
Морозов исчез.
Делов так и сидел с расстёгнутой ширинкой, что не совсем подобало дипломатическому генералу, хотя бы и в отставке.
...На плечах, окутанная дымкой ватных волос, одуванчиком плыла голова Корчагина — с большим лбом, вислым носом, карими глазками навыкате.
Удодов с Мотаевым кинулись подавать ему пальто.
— Спасибо, ребята, — стеснительно поблагодарил Корчагин, заметно растроганный...
— Он меня зовёт: Молодой Человек, — иронически сказал Мотаев.
Догмара Витальевна Пуховская враз оживлялась и становилась бурно разговорчивой, когда речь заходила о предметах и явлениях, понятных и знакомых ей, — например, о вязаных кофточках. Иногда приходил её супруг — смутный, анемично-сероватый, грузный субъект в толстых очках — служитель какого-то райкома. Она держала его в руках. Он её заметно побаивался.
Пуховская дважды съездила с Корчагиным в Грузию. Наверное, у него что-то не получилось, потому что вскоре он её выгнал, — сначала, после первой поездки, слегка приподняв: сделав начальником производственного отдела. После второй поездки фортуна Догмары Витальевны резко скакнула вниз.
— Надо же — десять рублей потерял! — бил себя по лбу Мотаев, имея в виду разницу в зарплате против прежней работы. — Идиот! Нет, завтра же — заявление на стол!
Но работал потом долго, может, и сейчас там же сидит. Его жена тоже служила в райкоме партии, чем он очень гордился и иногда туманно грозил.
Ещё у них было любимое выражение: "Партбилет на стол", имевшее в виду финал служебной ошибки и личную катастрофу.
— Я бы, конечно, разрешил, — говаривал Корчагин, — но партбилет у меня один.
(Попытки шантажировать меня возможным невступлением в партию — что должно было звучать угрожающе — я сразу отсек, сказав, что я и так недостоин и в партию вступать не собираюсь. Это было воспринято как парадокс, но больше к этому вопросу Удодов не возвращался.) "
...Это трудно объяснить. Осетров был нашим главным редактором, но в штате официально не состоял, объясняя приятелям, что занимается альманахом из какого-то странного фанатизма". Переходить из "Воплей" в руководящий состав Общества книголюбов — номинального хозяина "Альманаха библиофила" — даже при том, что зарплата его увеличилась бы вдвое, — он не решался: ему немыслимо было даже представить себе, как можно дышать одним воздухом с такими людьми. А вот два его помощника, одним из которых волею судьбы стал ваш покорный слуга, формально числились в правлении этого пресловутого Общества старшими редакторами производственного отдела и должны были подчиняться, соответственно, двум руководителям — Осетрову и Корчагину, не считая ещё всякой местной шушеры, которая требовала участия в идиотских собраниях, субботниках, приставала с нескончаемыми пустыми разговорами да ещё и лезла в содержание книги. Например, Удодов, возненавидев за что-то нашего автора Хвощана (и вправду, надо сказать, малоприятного человека), стал требовать, чтобы я не пускал его на порог и ни в коем случае не печатал (тот, кажется, нелестно отозвался о ком-то из книголюбской шатии). Видя, что я игнорирую эти домогательства, мой мелкий начальник дошёл до Корчагина, который стал грозить мне всеми доступными ему карами.
А Осетров гневно требовал: — Печатать!
Дело осложнялось ещё и тем, что в типографию наш альманах мог отправляться только с визой издательства "Книга", у сотрудников которого были свои счёты с каждым из моих шефов, да и свои вкусовые притязания.
(Иногда они ненавидели меня, как талантливого русского мастерового.)
Моим бичом стал редактор издательства "Книга" Савелий Моисеевич Розенфельд. Въедливый, как полевая мышь, он заставлял по десять раз переправлять и переписывать на машинке абсолютно готовую рукопись альманаха, придираясь к каждому слову и сглаживая текст, превращая древо в телеграфный столб — надо сказать, довольно аккуратный, но уже лишённый шумящей кроны и корней, да и коры. Вот так мы и сражались — от выпуска к выпуску, теряя время, споря, ругаясь, приходя к затейливым компромиссам и досадным соглашениям.
С пор у меня сложилась редакторская манера вообще не вмешиваться в текст, который представляется мне эманацией личности — святой и неприкосновенной. (Но с этим, конечно, не обязательно соглашаться.)
По-моему, на Западе нет литературных редакторов в нашем смысле слова. Там есть агенты по связи с общественностью, чья задача — получше пристроить книгу.
Огромное число редакторов в коммунистической России возникло потому, что в литературу, после отстрела и изгнания образованного сословия, хлынула гигантская армия безграмотных авторов.
(Мы воспроизводим некие ущербные формы культуры, где маразматик Горький становится классиком.
Начальство, за которое почему-то всегда бывает стыдно.)
Но, вопреки всему, книга выходила, моментально исчезала с прилавков и считалась одним из культурнейших изданий в Москве. Купить её можно было только по блату.
...Регулярно позванивал Гриша Козлов, рассказывал, что его притесняют в "Литературной России" — из-за дружбы со мной. Да и работа там была, прямо скажем, на износ: газета есть газета — не то, что степенный, выходящий раз в полгода альманах.
А тут как раз уходила в декрет моя напарница (Корчагин выразился так: "Галина Викторовна отправляется выполнять ответственное государственное задание"). Её место на год высвобождалось.
Я порекомендовал Гришу обоим моим начальникам. Красивый, хорошо воспитанный мальчик понравился, его взяли.
Ещё работая в газете, Гриша никак не мог купить себе приличные башмаки — это был страшный, почти безнадёжный дефицит. Тогда он объявил: "Буду носить советское дерьмо и приобрёл отечественные "говнодавы". Но через пару недель хождения в них едва не лишился ног.
Так Гриша убедился в ненадёжности аскезы.
Однажды вечером гардеробщик — кажется, в городской столовой — спрятал новую Гришину шапку и сказал, что никакой шапки не было. Пришлось идти домой с непокрытой головой. Наутро, в старой шапке, Козлов отправился к директору столовой. Крашеная дама выслушала Гришу и сказала: "Так вот же ваша шапка — у вас в руках!"