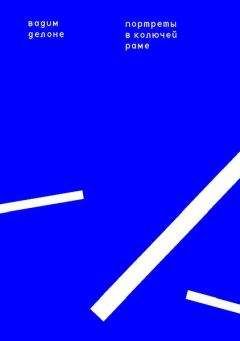Ее выводили из прогулочной камеры под предлогом недозволенного поведения. Я быстро выбил деревяшку из окошечка для очистки тюремного дворика от снега и кинул хлебный мякиш через трехметровую стену. Охранник ринулся смот реть, что я бросил. Я упал на цементный пол. Лена прижалась к стене и сделала вид, что у нее расстегнулась юбка…
Мой адрес и телефон отобрал у Лены полковник Петренко. Он ворвался в мою камеру несколько взбудораженный: «Вы что это тут, еще и переписку намерились затеять!» – «Гражданин начальник, в тюрьме пресекать переписку – это уж ваша задача. Как попал мой бывший адрес и телефон в руки прекрасной Елены, я вам сказать отказываюсь. И поверьте мне на слово – я даже знаю во всех тонкостях и тонах и лицо ее, и белье. Вы полагаете, что это только ваша привилегия – разглядывать лица и белье дам, случайно попавших под карающую десницу наших светлых органов?» – «В моей тюрьме никого, кроме своего сокамерника, видеть невозможно», – недоумевал Петренко. Полковник не применил никаких карательных санкций, кроме лишения ларька… На следующий день мне отстучала в стенку Лена: «Мы выбросили колбасу в окно. Скажите, что из вашей камеры упала». – «Да на черта мне ваша колбаса!» – возмущался я. – «Мы ее все равно назад не возьмем. Тебя ларька лишили из-за меня, я знаю», – настаивала Лена. – «Не пропадать же добру», – заметил мой сокамерник и тут же принялся колотить в дверь и орать, что колбаса, мол, на окошечке лежала и упала. Все это происходило еще в шестьдесят седьмом году. Мне было девятнадцать лет. Прошло немногим больше года, привозят опять меня в Лефортовский централ, конвой начинает меня раздевать и орать как можно громче. Я им говорю: «Что, не узнали?» – «Так ты тот самый поэт!» Спрашиваю у одного из охранников, где Лена. «Какая еще Лена?» – не понимает. – «Ну валюту ей приписали, парень у нее был из арабских студентов». – «Много тут таких сидит!» – отвечает. А я все выпытываю: «Ну как же не помнишь! Белье у нее такое синенькое, в кружевах». Белье он вспомнил, поскольку по порядку каждые две минуты в глазок заглядывал, сразу сообразил: «Знаю, о ком говоришь, поэт. Ей двенадцать лет дали, а араба продержали месяц и освободили».
Завели меня в камеру. Нагрянул сам полковник Петренко. «Так, Делоне, теперь вам никакого спуску не будет! Опять к нам пожаловали! Мы братскую помощь Чехословакии оказываем, а вы опять со своей антисоветской мазней вылезаете!» Я ему говорю: «У вас в прошлый раз ко мне вопрос был насчет того, как я девушку Лену разглядеть ухитрился. Так у меня сейчас к вам встречный вопрос имеется: что это за дружба народов, если вы арабского студента выпустили, а девчонке двенадцать лет всучили! Угробили». Полковник Петренко захлопнул дверь моей камеры и больше с нравоучениями не приставал. Я думаю, ему самому от этой истории с Леной весьма тошно стало, по крайней мере, он перестал донимать меня вопросами, как я организовал свидание там, где свиданий нет и никогда не положено. А может, полковник Петренко был просто расистом, что не исключено… Вот и вся история, доктор, касательно сексопатологии. Вот и вся любовь, как говорится…
Доктор был растерян. Когда меня выпроваживали назад в карцер, он торжественно заявил: «Я добьюсь облегчения вашей участи!»
– Чего это тебя к врачуге-то дергали? – спросил Макар, когда я был водворен в карцер.
– А так, – говорю, – про сексопатологию беседовали.
– Это что, про педерастов? – спросил Макар.
– Да нет, не совсем. А ты что, кроме педерастов, никого не пробовал?
– Была одна, – вздохнул Макар, – да так, и вспомнить нечего. Ты же знаешь, мне шестнадцать лет было, когда стрельбу эту около нашего оврага затеяли…
Срок карцера мне не сократили, но и не продлили. Что может хотеть заключенный, вышедший из карцера, только одного – закурить по-человечески. Вышедшему из карцера в куреве никто не отказывает. Я закурил и от одной затяжки потерял сознание. Потом тащили в барак на руках, потом лейтенант Лиза велел зайти в его кабинет, когда я приду в себя. В себя я пришел и к лейтенанту явился.
– Это не я на вас донес, – объявил Лиза, – я за стихи не доношу, я сам стихи люблю.
– Ну, а если не за стихи, то как, доносите? – возразил я.
– Обратно в карцер захотели! – орал Лиза. – Могу устроить!
– Устраивайте! – сказал я ему.
– Посылка тут вам положена, – сообщил Лиза.
– Какая еще посылка? – изумился я. – Меня давно всего лишили.
– Говорю, положена, значит, положена. Только быстрей запрашивайте, чтобы прислали.
* * *
Мне повторять два раза не надо было, друзьям моим – тоже. Я попросил растворимого кофе на все положенные пять килограмм. Этот продукт и в Москве добывают разными сложными путями, не говоря уж о Сибири. Посылка пришла в срок. Меня вызвали на вахту.
– Тут вам что-то незаконное прислали, Делоне, – объявил мне дежурный офицер. – «Нескафе» написано.
– Ничего незаконного, – возразил я, – про чай записано, что не положено, а про кофе ничего подобного. Любой дипломат этот напиток с утра до ночи хлещет.
– И не травятся? – спросил офицер.
– Да как-то не все. А вы попробуйте. А то что же это, одну самогонку каждый день глотать. Презентую лично для вас две банки.
Возможность приобщиться к «дипломатам» совсем сразила офицера.
– Ладно, давай две банки и катись отсюда.
Я, естественно, покатился… Блатные были ошарашены.
– Что это за подогрев ты приволок, политик? Что с этим делают?
– Берут столовую ложку на полкружки кипятку и размешивают, – разъяснил я.
Покоя у меня и до того не было, но тут уж и вовсе не стало. Всем хотелось хоть разок, да попробовать. У некоторых напиток даже вызывал смутное раскаяние. «Да, – говорил один из окружения Конопатого, – вчера за две ложки чая паренька порезали, а ты тут кофе какое-то раздаешь, вроде как не хуже, и без крови».
Без крови все же не обошлось. И все через мою чрезмерную расточительность и благотворительность. Я раздавал этот проклятый кофе направо и налево. Подходили и блатные, и бригадиры выпрашивали. Но я потчевал и мужиков, а это уж было никак не положено. Первым, конечно, взбесился бригадир Лохматый, тот, кто отпустил шевелюру на два сантиметра выше нуля. Он думал, что я отдам ему весь этот кофе, чтобы иметь право отлежаться хоть неделю в штабелях. Я презентовал ему всего две ложки. Зато отдал целую банку одному скромному пареньку Находкину, который сидел за кражу радиодеталей для своей собственной и для друзей своих пользы. Дабы можно было вмонтировать соответствующее устройство для ловли коротких волн, на которых передают «Голос Америки» и другие иноземные радиостанции. То есть те самые детали, что ни за какие деньги в магазинах не найти. Мы с этим Находкиным долго и помногу разговаривали, что очень раздражало моего соседа по нарам Толика из Тулы. Толик был блатным по призванию. Что-то хитро и ловко крал и попался на очередной краже со взломом. Толик не был человеком серьезно начитанным, но из его смутных высказываний выходило так, что ближе всего он стоит к ницшеанству. Он, безусловно, уважал меня за мою выходку на Красной площади, но презирал Находкина: «Втихаря думал как-то проскочить в интеллигенты! – негодовал Толик. – Вот он наверняка у меня и украл пластмассу, из которой мы наборные ручки для вольняшек мастерим. Мужик и спекулянт!»