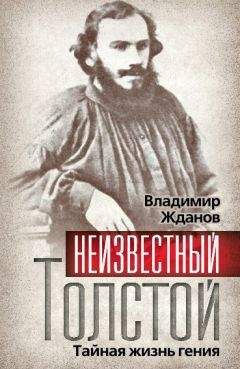После праздников Софья Андреевна пишет в том же радостном тоне и все по той же причине, совсем не понимая душевного состояния мужа: «Читали ли вы «Анну Каренину» в декабрьской книге? Успех в Петербурге и в Москве удивительный, я даже не ожидала, но упиваюсь с наслаждением славой своего супруга. Хвалят и на словах и в обзорах, я читала в «Голосе», а еще, говорят, в «Новом времени» и еще где-то хвалят. Для январской книги тоже послано уже в типографию, но теперь Левочка что-то запнулся и говорит: «Ты на меня не ворчи, что я не пишу, у меня голова тяжела», и ушел зайцев стрелять… Я-то ворчать! С какого права! Сама я веду праздную жизнь, почти ничего не делаю и начинаю этим баловаться, зато поправляюсь, а то здоровье было совсем плохо стало».
Это недомогание Софьи Андреевны началось еще в 1875 году, когда она заразилась от детей коклюшем, а потом перенесла воспаление брюшины. После болезни здоровье Софьи Андреевны не восстанавливалось, она начала кашлять, худеть.
Лев Николаевич в то время писал Голохвастову (и его жена была больна): «Ужаснее болезни жены для здорового мужа не может быть положения. Я нынешний год испытал и продолжаю испытывать это состояние. Жена была опасно больна. Всю зиму хворала, слабела и теперь опять в постели, и всякую минуту трепещешь, что положение ухудшится. Для меня это положение мучительно в особенности потому, что я не верю ни в докторов, ни в медицину, ни в то, чтобы людские средства могли на волос изменить состояние здоровья, то есть жизни человека. Вследствие этого убеждения, которого я не могу изменить в себе, я беру всех докторов, следую всем их предписаниям и не могу иметь никакого плана».
В январе 1877 года Софья Андреевна поехала в Петербург для совета со знаменитым профессором Боткиным. В письмах, написанных по этому поводу, видна большая заботливость и тревога Льва Николаевича.
Письмо к А. А. Толстой: «Жена едет в Петербург, чтобы повидаться с матерью, которую она не видала три года. Я остаюсь здесь с детьми. Если бы не это, я с женой был у вас. Теперь же она будет одна и все расскажет вам за меня и за себя. Одно, чего она не расскажет вам так, как бы я хотел, это о моей все возрастающей и возрастающей тревоге о ее здоровье со времени смерти наших последних детей. Она обещала мне быть у Боткина [167] , но кроме тех советов, которые он даст ей, я ничего не узнаю. Если вы увидите его, спросите у него, пожалуйста, и напишите мне прямо все, что он скажет. Если вы не захотите написать мне всего, что он скажет, то напишите: «я не хочу передавать того, что сказал Боткин», но если уже будете писать, напишите все. Мне так живо представляется радостная мысль, что вы увидитесь с женой, и так ясно, что она вам расскажет про нас все, что может вас интересовать, и гораздо лучше, чем я не только написал, но и рассказал».
На другой день после отъезда Софьи Андреевны он пишет ей: «Я не могу, еще нынче заниматься и еду в Ясенки, везу это письмо. Пожалуйста, не торопись назад, если не только нужно для совета Боткина, но просто если тебе приятно с хорошими людьми. Не стоит торопиться, когда уже далеко. Пожалуйста, не делай так, чтоб сказать мне: «Я бы поехала, увидала или услыхала, если бы пробыла лишний день». Мне одиноко без тебя, но нет той тоски, которой я боюсь, и чувствую, что не будет. А дети совершенно в тех же условиях, как при тебе».
Приписка к письму дочери: «Я всякую минуту думаю о тебе и воображаю, что ты делаешь. И все мне кажется, хотя я и мрачен (от желудка), что все будет хорошо. Пожалуйста, не торопись, и еще, хотя ты и говоришь, что покупать ничего не будешь, не стесняйся деньгами, и если вздумается что купить, возьми денег у Любови Александровны [168] и купи, и кути. Ведь через три дня мы возвратим.
Прощай, душенька, не получал еще письма от тебя. Без тебя я стараюсь о тебе не думать. Вчера подошел к твоему столу, и как обжегся, вскочил, чтоб живо не представлять тебя себе. Также и ночью, не гляжу в твою сторону. Только бы ты была в сильном, энергичном духе во время твоего пребывания. Тогда все будет хорошо».
В Петербурге Софья Андреевна впервые встретилась со старым другом мужа – А. А. Толстой. Они произвели друг на друга хорошее впечатление.
Александра Андреевна, исполняя просьбу Льва Николаевича относительно Боткина, сообщает ему:
«[Sophie] я полюбила навсегда и уверена, что она это почувствовала. Вот как она мне показалась. Во-первых, давно знакомая и наружностью точно такая, как она мне виделась издалека. Потом симпатична с головы до ног – проста, умна, искренна и сердечна. Могла бы много чего прибавить, но сегодня пишу тоже на парах. Она оставила мне впечатление невыразимо теплое, и я вся переполнена ею и вами. Но зато жажда вас видеть и говорить с вами сделалась еще сильнее и почти мучительной. Как хорошо, что я теперь люблю Sophie уже не par procuration [169] , a par conviction [170] . Это мне так отрадно, и в ней что-то такое родное. Я ей поручила сказать вам, сколько она мне понравилась, но, кажется, она была не совсем расположена передать это поручение. В ее голосе я нашла что-то ваше, то есть некоторые ваши интонации, и это было мне тоже так приятно. В эту минуту входит ко мне посланный от Боткина с извинением, что он не может сегодня прийти ко мне, сам же будет послезавтра, а покамест велит мне сказать, чтобы я успокоила вас совершенно, что в состоянии графини нет решительно ничего, ничего дурного, и все боли только нервные. «Сергей Петрович просит вас повторить графу, что нет и тени опасности или чего-либо серьезного». На этом хорошем слове я прощусь сегодня с вами, милый, дорогой Leon. Как я счастлива и благодарна Богу, что вышло так!»
«Если у вас есть грехи, дорогой друг Alexandrine, – пишет ей в ответ Лев Николаевич, – то они, вероятно, вам простятся за то добро, которое вы мне сделали вашими двумя последними письмами. Попробую отвечать на то из них, что особенно радостно меня поразило. Соня не опасна, и вы ее искренно полюбили; искренность я слышу в вашем тоне, слышу, что вам не нужно было искать слов, и не могу вам передать, как это меня радует. Она приехала тоже в восхищении от вас. И я это очень понимаю; хотя я и писатель, вы так трудны для описания, что, сколько я ни старался, я не мог объяснить ей вас. Но она теперь поняла совсем… [171]
Третье [172] и главное приятное в ваших письмах, это то, что вы говорите, что моя profession de for [173] не только не отдалила вас от меня, но приблизила. Это мне радостно. Последнее время, в моих разговорах и переписке с вами, с Урусовым, с Бобринским [174] о религии, я почувствовал, что я играю роль противной, холодной кокетки, которая, хорошо зная, что она никогда не уступит, не отнимает надежды. И я решился впредь этого не делать и быть вполне искренним и называть вещи по имени».