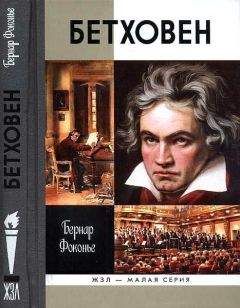Передышка выдалась краткой. 8 января — новая пункция. Бетховен уже на дух не переносил доктора Вавруха и послал за доктором Мальфатти, дядей Терезы, который сначала не хотел идти, чтобы не отбивать хлеб у коллеги. В конце концов, он согласился при условии, что будет только «помощником», и прописал больному странное лекарство — мороженое с пуншем. Бетховен был в восторге и поглощал «снадобье» в огромных дозах. Он словно возродился, но вскоре погрузился в пьяный сон. Эффект от «лечения» оказался непродолжительным. Его состояние ухудшилось. Ему пришлось перенести третью, потом четвертую пункцию. Худшим для него была «полная остановка деятельности». Когда боль ненадолго отступила, он нацарапал несколько нот из Струнного квинтета для Диабелли (WoO 62). Тело отказывалось повиноваться приказам духа. Ведь он всё еще говорил о своих планах: о своей симфонии, своем «Фаусте», оратории, которую напишет, когда выздоровеет, — «Саул и Давид», по образцу своего учителя Генделя (Бетховен только что получил полное издание его сочинений — последняя и глубокая радость).
Сознавал ли он, в каком он состоянии? Его тело теперь было одной сплошной раной. Он покрылся струпьями. Однажды одна из ран открылась и оттуда вытекло еще немного воды. Последние посетители, в том числе Гуммель с женой, не могли смотреть без слез на это мощное тело, теперь похожее на скелет. Рассказывает Герхард фон Брейнинг:
«Когда тело Бетховена подняли с кровати для вскрытия, впервые увидели, что несчастный весь покрыт язвами. Во время болезни от него редко можно было услышать слово жалобы. В „Тетрадях“ нашли только одну запись на эту тему, на которую мой отец ответил обещанием мази для смягчения кожи. Однако мне он не раз жаловался на боль, которую ему причиняет воспалившееся место пункции».
Шиндлер же не упускал из виду своих интересов. Продолжая донимать Бетховена советами и уверениями в преданности, он вытребовал себе в подарок 27 февраля партитуру Девятой симфонии и Струнного квартета № 8 (ми минор, опус 59), клянясь Всеми Святыми, что никогда с ними не расстанется. Впоследствии он продаст их прусскому королю вместе с тем, что останется от разговорных тетрадей.
Финансовое положение Бетховена становилось тревожным, и 22 февраля он продиктовал письмо Мошелесу{52}, напоминая о давнем предложении Лондонского филармонического общества устроить концерт в его пользу. Шиндлер добавил к этому собственное письмо, в котором указал, что Бетховен при смерти.
Королевское Филармоническое общество отозвалось очень быстро, прислав 100 фунтов стерлингов, то есть тысячу дукатов. Узнав об этом пожертвовании, венцы возмутились тем, что Бетховен обратился за помощью к англичанам. Но в Вене не торопились поддержать его во время агонии, даже эрцгерцог Рудольф ни разу не справился о нем.
18 марта Бетховен продиктовал свое последнее письмо, благодаря Мошелеса и Филармоническое общество Лондона за щедрый подарок.
24 марта ему стало совсем худо. Именно в этот момент ему доставили бутылки «очень хорошего старого рейнвейна», которые он заказал по совету врача своему другу Шотту в прошлом месяце. Бетховен прошептал: «Жаль… жаль… Слишком поздно!» Потом умолк. Вскоре у него начался бред. В тот же день пришел священник, чтобы причастить его Святых Тайн.
25 марта он впал в кому. «Его хрип было слышно издалека», — пишет Герхард фон Брейнинг. Бетховен был без сознания.
Брат Иоганн не замедлил явиться: он хотел прибрать к рукам то, что осталось от тысячи дукатов, присланных Филармоническим обществом Лондона. Брейнинг и Шиндлер вышвырнули его за дверь без долгих разговоров.
В момент смерти их обоих не было рядом: они устраивали будущие похороны, которые теперь казались неминуемыми. В комнате умирающего оставались только юный Герхард фон Брейнинг и композитор Ансельм Хюттенбреннер{53}. И больше никого? Так думают не все.
«По свидетельству композитора Ансельма Хюттенбреннера из Граца, присутствовавшего при его смерти, единственным человеком, кроме него, находившимся в комнате в последние минуты, была Иоганна ван Бетховен, — пишет Мейнард Соломон. — Эта информация вызвала понятное удивление, когда дошла до Тейера в 1860 году, поскольку Шиндлер умолчал о том, кто была женщина, находившаяся в комнате. Тейер не мог поверить, что Иоганна и Бетховен примирились, и явно побуждал Хюттенбреннера подправить свои воспоминания, поэтому тот заменил Иоганну Терезой ван Бетховен. Хотя теперь внести полную ясность в этот вопрос уже невозможно, первое воспоминание Хюттенбреннера выглядит самым верным, вот почему, вероятно, именно Иоганна была той госпожой ван Бетховен, которая срезала с головы Бетховена прядь волос и протянула Хюттенбреннеру „как священную память о последних часах Бетховена“».
Около четырех часов небо потемнело и разразилась гроза — «мощная гроза с градом и снегом», — пишет Герхард фон Брейнинг. Бетховен поднял руку и сжал кулак, словно бросая вызов небу, — рассказывает Хюттенбреннер, возможно, добавляя что-то от себя. «Когда рука упала на постель, глаза его были полузакрыты. Я приподнял его голову правой рукой, а левую приложил к груди. Дыхание больше не вырывалось из его губ, сердце не билось. Я закрыл ему глаза и поцеловал их, а также лоб, губы, руки».
После смерти дом заполонили родственники. Искали деньги — и не могли найти. Иоганн сразу обвинил фон Брейнинга и Шиндлера в краже. Тогда Хольц указал потайной ящик, где Бетховен хранил самые ценные вещи. Нашли акции, Гейлигенштадтское завещание, «Письмо к бессмертной возлюбленной» и два женских портрета — Джульетты Гвиччарди и Марии Эрдёди.
В последующие дни множество его бумаг исчезло. Более чем вероятно, что на всеми покинутую квартиру наведалась полиция императора в поисках компрометирующих документов: Бетховен слыл опасным противником режима.
За всё его имущество, проданное с молотка в ноябре того же года, удалось выручить 1140 дукатов. В общем и целом наследство, рукописи, книги, партитуры принесли десять тысяч дукатов. Стоимость целой жизни ожесточенного труда, создания одного из величайших порождений человеческого ума.
За гробом шла толпа в 20 тысяч человек, теснясь на улицах Вены. Отпевание прошло в церкви Пресвятой Троицы братьев-миноритов, потом на Верингском кладбище в предместье Вены. Прекрасное надгробное слово Франца Грильпарцера прочел актер Генрих Аншюц. Хор спел «Miserere» (WoO 130) под аккомпанемент тромбонов.
Говорят, что после ухода священника, за день до смерти, Бетховен прошептал: «Finita est comoedia!..»[26]