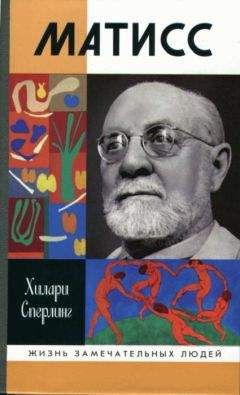Ткацкое дело на родине Матисса шло рука об руку с радикальным новаторством. В «Гармонии в красном» художник использовал богатейшие декоративные традиции края, в котором родился; он ниспровергал академические правила, пытаясь доказать свою преданность чистому цвету, которую всеми силами стремились обуздать его учителя. Щукин, увидев осенью ожидаемую с таким нетерпением «Гармонию в голубом», нисколько не смутился ее превращением в «Гармонию в красном». Некоторые объясняли эту покорность доверчивостью неотесанного, малообразованного барина, «привыкшего к кроваво-красному цвету старинных русских икон». Однако Сергей Щукин занимался текстилем профессионально. Он унаследовал процветающую компанию, которая под его руководством превратилась в текстильную империю «И. В. Щукин и сыновья», одну из ведущих российских торговых фирм. Привыкший сам выбирать расцветки и узоры тканей[99], он инстинктивно понял синтаксис нового изобразительного языка Матисса, уловив не только его свободу и широту диапазона, но и экспрессивную мощь. «Декоративность и выразительность, по сути, одно и то же», — говорил Матисс, и Щукин был в числе тех немногих, кто понимал, что под этим подразумевал художник. Русский коллекционер одним из первых почувствовал, что Матиссу удалось «довести силу цвета и энергию линии до интенсивности, неведомой прежним поколениям».
Лаконичные письма, которые Матисс писал Щукину летом девятьсот восьмого года, сообщая об успехах и задержках в работе, перемежались неутешительными новостями, которые приходили в Париж из Перпиньяна, где угасала его теща. Матисс бился над преобразованием синего в красное, когда в конце июля она умерла. Смерть мадам Парейр подвела черту под скандалом с Юмберами, который едва не погубил ее семью. И хотя ни друзья, ни родственники Матисса никогда не касались этой темы, горький осадок той истории остался навсегда. Все связанное с процессом Юмберов считалось в семье табу, поэтому страх перед всем, что могло показаться вторжением в их личную жизнь, передался следующим поколениям. Пренебрежение мадам Парейр к нападавшей на нее прессе десятилетиями продолжало жить в ее потомках, не говоря уже о самом Матиссе. Анри Матисс, безусловно, считался выдающимся художником, но о его человеческих качествах отзывались весьма нелицеприятно; при жизни да и долгое время после кончины его называли эгоистичным, черствым и скупым. И мало кто догадывался, что во многом это происходило из-за невероятной скрытности семьи, бывшей настолько единодушной в своем нежелании раскрывать фамильные секреты, что тайна мадам Парейр, сошедшей в могилу в 1908 году, оставалась похоронена вместе с ней еще целых девяносто лет[100].
После похорон Матиссы вернулись в Париж, где Анри продолжил готовиться к предстоящему Осеннему Салону, в члены отборочного комитета которого он был приглашен вместе с Марке. Среди единодушно отвергнутых жюри работ оказались и картины Жоржа Брака[101], чье сотрудничество с Пикассо грозило отменой всех основополагающих критериев, которыми доселе руководствовалось жюри. Пытаясь описать одно из браковских творений критику Луи Вокселю, Матисс набросал на бумаге комбинацию из прямых и поперечных линий. «Картина состоит из маленьких кубиков» («Un tableau fait de petits cubes»), — произнес он фразу, которой было суждено остаться в истории.
Сам же он выставил в Салоне несколько картин, центральной из которых стала «Гармония в красном». «Неожиданно я оказался перед стеной, которая пела, — нет, она кричала, кричала красками и излучала сияние, — написал о картине молодой скандинавский студент. — Что-то совершенно новое и беспощадное было в ее необузданной свободе…» Счастливым обладателем «Гармонии в красном» был Сергей Щукин, появившийся на парижской сцене, чтобы принять у Сары Стайн эстафету «главного собирателя Матисса». Желание русского коллекционера собрать подобную коллекцию (щукинские письма художнику той поры так и пестрят ссылками на картины мадам Стайн) вскоре осуществится. Он станет обладателем тридцати семи матиссовских полотен (через руки Сары Стайн прошло примерно столько же), которые выставит для публики в своем московском особняке, превратившемся накануне революции в первый в мире музей современного искусства.
Не кто иной, как Матисс пригласил Щукина осенью 1908 года в мастерскую Пикассо в Бато-Лавуар посмотреть «Авиньонских девиц». Поначалу картина вызвала у гостя отвращение, но затем он изменил свое мнение и стал покупать работы Пикассо десятками — и это при том, что кубистическая живопись становилась все более и более агрессивной, все более трудной для понимания и практически непродаваемой. Матисс, надо отдать ему должное, часто проявлял инициативу и представлял работы коллег дилерам и коллекционерам. Делал он это от чистого сердца и заботу о друзьях и приятелях не афишировал: старался проводить работы через строгое выставочное жюри, помогал развешивать и продавать картины; часто подбадривал и помогал советом, знакомил собственных потенциальных покупателей с художниками, которые терпели нужду. Манген, Марке, Пюи, Дерен, которых взял под свое крыло и стал продавать Воллар, были обязаны своими успехами прежде всего Матиссу, чье собственное материальное положение было в ту пору, конечно, не столь бедственным, но все же еще далеко не стабильным.
Однако даже относительный достаток не изменил семейных приоритетов. Едва у них осенью появились деньги, как Матисс позволил себе пополнить коллекцию и купил одного Ренуара у Дрюэ и шесть акварелей Сезанна у Воллара. В тот самый день, когда пребывавшая в состоянии полного счастья от сыпавшихся на мужа щукинских заказов Амели Матисс похвасталась Грете Молль, что купила замечательные простыни в универмаге «Бон Марше», Матисс тоже отправился за покупками. «Изумительный персидский ковер был чудо как хорош. Он не мог забыть его и только повторял: “Как он прекрасен! Как прекрасен!”» Эти восторги у Амели выслушивала в течение двадцати четырех часов, а потом пошла и вернула простыни. Семейный бюджет не мог осилить двух покупок, и повторилась история с синей бабочкой. Матисс получил свой волшебный ковер и, как вспоминала Грета Молль, сидел довольный, попыхивая сигарой, любуясь его красками и орнаментом, которые вскоре перевоплотятся в чудесный «Натюрморт в венецианском красном».
В последних числах 1908 года написанные Матиссом по просьбе покойного Гольберга «Заметки живописца» опубликовал авторитетный журнал «Grande Revue». В том же году его работы впервые экспонировались в Лондоне («Импрессионизм… впал в детство благодаря месье Матиссу, темы которого и их трактовка откровенно инфантильны», — писал критик из «Burlington Magazine»), Нью-Йорке («французский художник умен, дьявольски умен… Тремя яростными мазками он способен изобразить самку во всей ее срамоте и омерзении») и Москве (где приведенные в замешательство любители искусства реагировали на его живопись, по удачному выражению князя Сергея Щербатова, «словно эскимосы на граммофон»). Завершал Матисс девятьсот восьмой год в Берлине, куда приехал на открытие своей выставки в галерее Пауля Кассирера вместе с Пуррманом и Моллями. «Гвоздем» ее стала «Гармония в красном», сделавшая последнюю остановку в Западной Европе по пути в Москву. Самые смелые поклонники художника были напуганы. Критики называли его картины бессмысленным, бесстыдным, инфантильным уродством или того хуже — болезненным и опасным бредом сумасшедшего. И хотя Матисс всеми силами стремился достичь гармонии, именно ее менее всего находили современники в его искусстве.