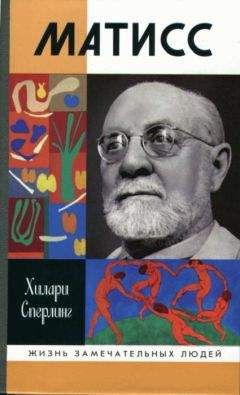Самым модным воплощением этих канонов в глазах великосветского артистического мира был Морис Дени[102]. Это он недавно взволновал Москву серией панно, написанных для дома Ивана Абрамовича Морозова, богатейшего текстильного магната и столь же страстного коллекционера, как и Щукин. Сюжетом декорации Дени стала история любви Амура и Психеи. Старинную легенду Дени «переложил на современный лад», скомпоновав в пяти сценах. Амура он изобразил в виде довольно упитанного обнаженного юноши с крыльями, который преследует не менее солидную Психею с пышной грудью, а также не менее пышными ягодицами и бедрами (все это было выдержано в розово-зелено-голубой гамме, кем-то ехидно названной потом «цветом розовой карамели»). Крепкое телосложение пары усиливало нелепость целомудренного объятия возлюбленных, возносившихся щека к щеке в небеса, почти не прикасаясь друг к другу: художник умудрился изобразить обольщение без какого-либо намека на желание или страсть. Музыкальный салон морозовского особняка, украсившийся панно Мориса Дени, в Москве сочли настоящим шедевром. Иван Морозов, как и Щукин, покупавший Матисса и даже собиравшийся заказать художнику декорировать одну из своих гостиных, от этой идеи вскоре отказался. Сергей Щукин же, напротив, мечтал, чтобы Матисс написал для него нечто необыкновенное. В январе 1909 года Щукин назначил художнику встречу в ресторане «Larue» и выложил свои пожелания насчет оформления лестницы московского особняка огромными декоративными панно. Это был незабываемый обед: вдвоем, словно заговорщики, они разрабатывали план будущих панно в синих, розовых и зеленых тонах, на которых должны были танцевать нимфы и играть на свирели фавны. Отсюда и родились матиссовские «Танец» и «Музыка».
В начале февраля Матисс уехал в Кассис, на побережье Средиземного моря, чтобы немного побыть в одиночестве. Он часто гулял вдоль берега, не в силах оторвать взгляда от бьющихся о скалы волн. Художник постоянно думал о щукинском «Танце», поэтому его так интересовали воздух, вода и солнечный свет, но особенно — движение. «Когда я смотрю на разбивающиеся о прибрежные скалы волны, то их круговорот напоминает мне собственные метания», — говорил он о своих переживаниях отдыхавшему тогда в Кассисе Марселю Самба, известному депутату-социалисту и любителю искусства[103]. Весной Матисс «четко и полно» изложил свои мысли об искусстве корреспонденту журнала «Les Nouvelles», взявшему у него интервью по возвращении в Париж. Он заявил, что для художников его поколения настала пора выработать новый, более выразительный художественный язык. И это возможно, лишь возвратившись к основополагающим ценностям, избавившись от излишней детализации и переработав «сырой материал», доставшийся в наследство от натурализма и импрессионизма: «Мы стоим у конца реалистического движения, благодаря ему накоплено много материала. Мы должны его критически разобрать и систематизировать, что потребует немало труда».
Амбициозность Матисса была одной из причин, заставивших Амели стать его женой. Людям, плохо знавшим ее, она могла показаться простой домохозяйкой, однако это была только видимость. Внешне скромная и сдержанная, мадам Матисс была нетривиальной натурой и к своему браку относилась как к азартной игре: деньги, обеспеченность и успех в обществе не играли для нее никакой роли. Смысл ее жизни определяла живопись Анри, и только она. Амели энергично помогала мужу во всех рискованных начинаниях, ни на минуту не сомневаясь, что настанет день, когда он добьется успеха. «Основой нашего счастья…. было то, что наши отношения с первого же дня строи-лись на взаимном доверии, — писала она Маргерит много лет спустя. — Это было величайшим благом для нас и предметом зависти наших друзей; благодаря этому мы смогли пережить самые трудные времена». Они все делали вместе — чуть ли не с первой встречи их называли «Неразлучниками». Четыре недели, проведенные Анри в Кассисе, были, пожалуй, самой долгой разлукой супругов за одиннадцать лет со дня свадьбы. Центром их мира была его мастерская, которая принадлежала Амели точно так же, как и ему. Она следила за всем, начиная с удобства моделей и кончая ежевечерним ритуалом мытья кистей. Она отмечала в дневнике самые важные события, вела переписку и читала по ночам, когда чрезмерное напряжение лишало Анри сна. Она позировала ему или наблюдала за рождением каждой из его картин, сеявших, как казалось современникам, смуту и хаос с момента «фовистского взрыва» девятьсот пятого года.
Она бы не смогла нести на своих плечах такой груз одна, без помощи Марго. Они с Анри держали дочь дома отчасти еще и потому, что не справлялись без нее, а отчасти — из предосторожности. С возрастом боли в поврежденной трахее становились все сильнее, и Маргерит нуждалась в постоянном присмотре. Летом 1909 года ей исполнилось пятнадцать, и она дышала через трубку, удачно маскируя отверстие в горле блузками с высоким воротником или черной бархатной лентой.
Порядок, заведенный в мастерской женой и дочерью, соблюдался учениками Матисса не столь строго. Теоретически он занимался с ними только дважды в неделю, по утрам, но уже сам факт его присутствия здесь, рядом, за перегородкой, оказывал на всех магическое действие. Слухи об «Академии Матисса» множились, достигая разных стран и континентов. Начинающие художники из Европы и Америки устремились в Париж, и к 1909 году число его воспитанников достигло трех десятков. Многие оказывались разочарованы, не находя в Учителе (cher maître, как его многие называли) и намека на «дикого зверя», что некогда появлялся на публике в черном овчинном тулупе мехом наружу. По мере того как его картины становились все более дерзкими и будоражащими, гардероб и манеры Матисса делались спокойнее и сдержаннее. Студентов он учил доверять первому впечатлению и полагаться на интуицию. Все, бросающееся в глаза, все нарочито красивое или преувеличенное следовало безжалостно удалять. «Все, что не приносит пользы картине, тем самым уже вредно», — говорил он. Занятия изматывали Матисса: даже самым бездарным он помогал с тем же рвением, с каким работал над своими полотнами. Наверное, потому, что собственные студенческие годы были еще свежи в памяти, он слишком хорошо знал, каково быть начинающим, еле сводящим концы с концами провинциалом, замерзшим, голодным, ждущим совета учителя как небесного откровения.
Жизнь студентов была нелегкой, но тяжелей всего приходилось девушкам, которые, как бы они ни нуждались, не могли спать на скамейке или бродить в одиночестве ночью по Парижу. Приличные домовладельцы с подозрением относились к незамужним женщинам, если при тех не было родственника либо покровителя, а большинство художественных школ отказывало им в приеме на учебу. Среди молодых учениц «Академии Матисса», каковых в ней было немало, практически каждая имела мужа или возлюбленного, за исключением разве что нескольких русских девушек. Одной из них была Мария Васильева, прибывшая в Париж из Мюнхена, куда она, в свою очередь, приехала из Санкт-Петербурга, оставив в России почтенную буржуазную семью, сплошь состоящую из учителей, инженеров и адвокатов. Двадцатипятилетняя мадемуазель Васильева была весьма миниатюрной, но при этом сильной и бесстрашной девицей. Ее решительность и необычайное упорство позволили ей сделать впечатляющую карьеру. Между двумя мировыми войнами Мари Васильефф[104] стала видной фигурой парижского авангарда и монпарнасской богемы в частности.