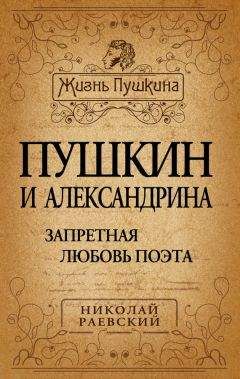Долли теперь спокойнее и выдержаннее матери. Ее порывистая юность прошла. Тоже тревожится за друзей, которые могут заразиться холерой, но пишет Вяземскому 4 декабря 1830 года строки весьма рассудительные: «К тому же нет ничего менее веселого, чем современный салон, – нет больше любезности, нет больше изящества в выдумках, если только вы и Пушкин вскоре не вернетесь – жизнь в деревне, быть может, предохранила вас обоих от этой роковой заразы»[326].
Фикельмон считает – и она, надо думать, права, – что, оставаясь в своем поместье, легче уберечься от холеры, чем в Москве.
Вернемся теперь немного назад – к лету все того же 1830 года.
Свадьба Пушкина по разным причинам долго откладывалась. На короткое время (конец июня – начало августа) он приехал в Петербург и затем снова вернулся в Москву. Очевидно, повидавшись с поэтом, Фикельмон записывает 11 августа 1830 года: «Вяземский уехал в Москву, и с ним Пушкин, писатель; он приезжал сюда на некоторое время, чтобы устроить дела, и теперь возвращается, чтобы жениться. Никогда еще он не был таким любезным, таким полным оживления и веселости в разговоре. Невозможно быть менее притязательным и более умным в манере выражаться».
Быть может, поэт вспомнил о том, что в апрельском письме Дарья Федоровна заранее упрекала его в том, что, женившись, он переменит свое отношение к ней. Вспомнил и лишний раз хотел показать, что все остается по-старому.
Долли очень ценила в людях умение вести беседу, и в особенности, способность говорить просто и занимательно. Чувствуется, что именно эта способность Пушкина, оттенявшая его блестящее остроумие и ум, особенно восхищала молодую женщину.
А в Долли он видит умную, блестящую собеседницу. В салоне Фикельмон поэт прост и естествен.
18 февраля 1831 года Пушкин наконец обвенчался с Н. Н. Гончаровой. Первые месяцы молодые прожили в Москве, а в середине мая, не поладив с тещей, поэт приехал с женой в Петербург, намереваясь провести лето и осень в Царском Селе.
Вернемся снова к дневнику Фикельмон. 21 мая она записывает: «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену, но не хочет еще ее показывать [в свете]. Я видела ее у маменьки – это очень молодая и очень красивая особа, тонкая, стройная, высокая – лицо Мадонны, чрезвычайно бледное, с кротким, застенчивым и меланхолическим выражением, – глаза зеленовато-карие, светлые и прозрачные, взгляд не то чтобы косящий, но неопределенный, – тонкие черты, красивые черные волосы. Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, чего ему недостает, чтобы быть красивым, – он так хорошо говорит, его разговор так интересен, сверкающий умом без всякого педантства».
Портретов Натальи Николаевны известно немало, но почти все они относятся ко времени ее вдовства или второго замужества с генералом П. П. Ланским. Немало мы знаем и описаний ее внешности в переписке и мемуарах современников. Прелестная, выразительная словесная акварель, набросанная Фикельмон после первой встречи с Натальей Николаевной, – едва ли не лучший ее литературный портрет. Чувство прекрасного, которое было так сильно у Дарьи Федоровны, сказалось здесь в полной мере. Сказалась в ее записи и всегдашняя способность наблюдать людей. Фикельмон сразу заметила, что Пушкин влюблен в свою юную жену, хотя есть ряд свидетельств, что под венец он шел неохотно, почти по обязанности.
За неделю до свадьбы (10 февраля 1831 года) он пишет своему приятелю Н. И. Кривцову: «До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастия мне не было <…> Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же женюсь я без упоения, без ребяческого очарования <…> Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью».
Но свадьба состоялась, и радостно удивленный Пушкин почувствовал, что к нему в самом деле пришло долго не дававшееся счастье. Через шесть дней после венчания (24 февраля) он пишет П. А. Плетневу: «Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
Через три месяца счастливого, влюбленного поэта увидела у себя Фикельмон. По-прежнему он кажется ей очень некрасивым, даже уродливым человеком, о внешности которого забываешь, когда он начинает говорить. По-прежнему Долли отмечает сверкающий ум поэта. С обычной своей проницательностью она чувствует, что Пушкин счастлив.
Пребывание молодоженов в Петербурге, где они жили в гостинице Демута, продолжалось всего неделю. 25 мая Пушкины уехали в Царское Село, куда вскоре в связи с начавшейся в столице эпидемией холеры переехали царская семья и двор. Вокруг резиденции были установлены карантины, и сообщение с Петербургом прекращено. К этому времени относится еще одно впервые публикуемое сообщение о Пушкине в письме Е. М. Хитрово к Вяземскому от 12 июля 1831 года: «Наш друг в Царском Селе – я не могу для него ничего сделать – за исключением книг»[327].
Таким образом, несмотря на карантинные строгости, заботливая Елизавета Михайловна продолжала снабжать поэта нужными книгами, вероятно, используя при этом возможности своего зятя-посла[328].
Мы видим, что ее отношение к Пушкину после его женитьбы остается прежним. Е. М. Хитрово сумела себя перебороть и, оставаясь другом Пушкина, жизни его больше не осложняла.
Обратимся теперь снова к ее дочери. 25 мая, через четыре дня после того, как Долли писала в дневнике о счастии Пушкина, она в грустном письме к Вяземскому, полном тревоги по поводу холеры и событий в Польше, сообщала ему свои мысли о несчастии, которое она предвидит для четы Пушкиных в будущем…
В письме, опубликованном еще в 1884 году сыном Вяземского[329], имеются такие строки: «Пушкин к нам приехал,
к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее; мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие (pressentiment) несчастия у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину еще только один раз»[330].
Еще определеннее выразились опасения Долли в письме к Вяземскому 12 декабря того же года: «Пушкин у вас в Москве, жена его хороша, хороша, хороша! Но страдальческое выражение ее лба заставляет меня трепетать за ее будущность».