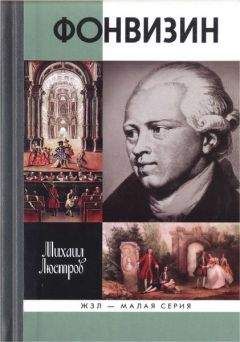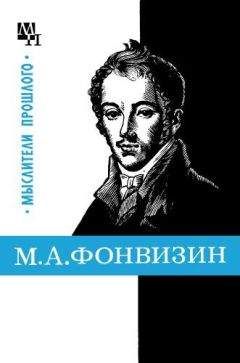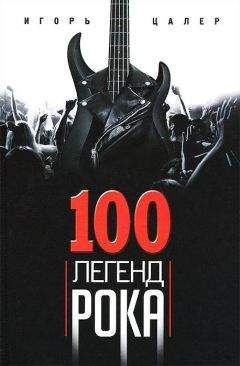Фонвизин же, по свидетельству его русских собеседников, продолжает следовать линии Петра Панина и с удивительной «нескромностью» публично ругает российские власти. Из письма князя Семена Романовича Воронцова (тоже не всегда лояльного по отношению к правительству и со временем даже попавшего в немилость к императрице) брату Александру Романовичу, в это время президенту Коммерц-коллегии, следует, что бывший секретарь покойного Никиты Панина без всякой меры критикует нынешний внешнеполитический курс России, не одобряет намерение Екатерины II поддержать императора Иосифа II и уклоняться от союза с Пруссией и Францией, неумеренно хвалит шведскою короля Густава III и открыто провозглашает, что «со смертью его покровителя Россия более не блещет на европейском небосклоне».
Правда, обрушивается Фонвизин не только на «нынешнее министерство», но и почти на все увиденное им за границей. После путешествия во Францию он приобрел изрядный опыт описания европейских неустройств и, рассказывая об Италии, активно использует весь арсенал своих ругательных средств. Несомненно, самым любимым бранным словечком путешествующего ворчуна было и остается «скотина» и его многочисленные производные (в то время как Фонвизин награждал этим «термином» встречных и поперечных, его недавний оппонент Иван Никитич Болтин связывал слово «скот» со шведским skatt — «сокровище», «клад»). Описывая в одном из писем из Монпелье «французские обычаи», Фонвизин отмечает, что «народ здешний с природы весьма скотиноват», да «и господа изрядные есть скотики», а через семь лет выясняет, что по этой части итальянцы своих соседей значительно превзошли: в Италии люди видятся ему «мерзкими», их образ жизни — «свинским», города, по его наблюдению, «не провонялые, а прокисшие», в лучшей же гостинице Сиены «такая грязь и мерзость, какой, конечно, у моего Скотинина в хлевах никогда не бывает». По мнению русского путешественника, Италия не идет ни в какое сравнение не только с Россией, но и с прочей Европой. «Ради мы, что Италию увидели, — пишет он сестре Феодосии из Рима 7/18 декабря 1784 года, — но можно искренно признаться, что если б мы дома могли так ее вообразить, как нашли, то конечно бы не поехали. Одни художества стоят внимания, прочее все на Европу не походит».
Для Фонвизина немецкая земля, где жить дешево, а чистота кажется аффектацией, выглядит куда предпочтительнее Италии, а немцы и даже нелюбимые им французы в своей массе «ведут себя гораздо честнее» итальянцев. Если в находящихся неподалеку от Пизы «теплых банях» Фонвизин находит «чистоту и порядок неожиданный», то только потому, что тамошним государем является природный немец. Хотя, конечно, и в Германии «во всем генерально хуже нашего… у нас все лучше, и мы больше люди, нежели немцы», — отмечает неизменно патриотически настроенный русский путешественник. С другими известными Фонвизину европейскими народами итальянцев он не сравнивает, но очевидно, что прямое с ними сравнение было бы не в пользу итальянцев. Посетив Польшу, русский путешественник отмечает, что «дуэли здесь всечасные. За всякое слово выходят молодцы на пистолетах»; посетив Италию — что «итальянцы все злы безмерно и трусы подлейшие. На дуэль никогда не вызывают, а отмщают обыкновенно бездельническим образом». Этот «бездельнический» способ, которым особенно активно пользуются «вероломные болонезцы», лишь начавший свое знакомство с новой страной Фонвизин описывает сестре в письме от 5/16 октября 1784 года: «Мщение их состоит не в дуэлях, но в убийстве самом мерзостнейшем. Обыкновенно убийца становится за дверью с ножом и сзади злодейски умерщвляет. Самый смирный человек не безопасен от несчастия. Часто случается, что ошибкою вместо одного умерщвляют другого». Бретеров Фонвизин не любит, помнит мнение Ивана Андреевича Фонвизина, что «стыдно, имея таковых священных защитников, каковы законы, разбираться самим на кулаках, ибо шпаги и кулаки суть одно», но избегающих честного поединка подлых убийц ненавидит всей душой.
Жизнь среди итальянцев кажется ему невыносимой: они шумны и чрезмерно смешливы, умных собеседников среди них нет, о французской литературе в Италии не имеют ни малейшего понятия, по-французски не говорят (и Фонвизиным приходится выучиться «болтать кое-как по-итальянски»), в любимые им карты почти не играют (если и играют, «то по гривне в ломбер»), а гостей угощают так, что Фонвизину приходится «краснеться» за хозяина. В отличие от Франции, где Фонвизину довелось увидеть «мудрых века сего», в Италии, где «Вольтер, наш любимый Руссо и почти все умные авторы запрещены», он «живет» преимущественно «с картинами и статуями» и, проводя время таким образом, боится «самому превратиться в бюст». Кроме Вильгельма Тишбейна, здесь он сводит знакомство с художником Арманом Шарлем Караффом, автором знаменитого фонвизинского портрета, и чрезвычайно расположенным к русскому литератору известным поэтом, кардиналом и графом Лионским, французским послом в Риме Франсуа де Берни (по словам Вяземского, за вычурный стиль своих творений прозванным прусским королем Фридрихом Великим «цветочницей Бабетой»). Прочие известные ему люди искусства и науки (не обязательно итальянцы) вызывают у насмешливого Фонвизина мало почтения. Над ними он смеется в течение всей поездки и смеется безжалостно. Рассказывая о встрече в Нюрнберге со своим старым знакомым, профессором Клодиусом, он ядовито отмечает, что пока ученый человек занимался «корректурою своих премудрых сочинений», Фонвизины проводили время в обществе его жены, «здешней знаменитой сочинительницы», чьи «сочинения суть не что иное, как любовные письма к своему супругу, в которого, не взирая на его полную, красную и глупую рожу, она влюблена смертельно».
Естественно, рассказывая о своем путешествии за границу, прославленный русский комедиограф не может обойти вниманием тамошние театры и ругает их, по своему обыкновению, не жалея слов: оказывается, он в жизни ничего «не видывал» «мерзче» немецкого театра в Мемеле и «гаже» комедиантов французского театра в Пизе. А после посещения итальянской комедии в Боцене сообщает сестре Феодосии, что местный «театр адский» и что «растерзанный» комарами, он «выбежал из него, как бешеный». Жалуется Фонвизин и на итальянскую публику, особенно на ее женскую часть: великолепные флорентийские театры плохо освещены, а все потому, что «дамы не любят, чтоб их проказы видны были. Всякая сидит с своим чичисбеем и не хочет, чтоб свет мешал их амуру», в пизанской же опере «во время представления такой шум и крик, как на площади. Дамы пикируются не слушать музыки. Cʼest du bon ton, чтоб из ложи в ложу перекликаться и мешать другим слушать». Правда, рассказывая о многочисленных (касающихся отнюдь не только итальянского театра) безобразиях, Фонвизин не оригинален и, по наблюдению исследователей, в своих письмах активно использует едва ли не целые фрагменты из изданного и хорошо ему известного дневника безымянного немецкого путешественника, в 1781 году посетившего Тоскану, Пизу и Ливорно.