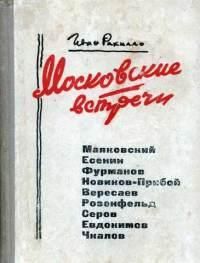Глаза испанца горели.
— Я еду Испанья!
Чкалов молча протянул испанцу руку.
— Друзья, подойдите же ко мне! — Островский с признательностью положил свои прозрачные, тонкие, как свечи, восковые пальцы на смуглую руку испанца и на широкую, полную силы и жизни, мужественную руку Чкалова.
— Один за всех, все за одного!
Крупный солнечный дождь, освежая воздух, дробно стучит по крыше летней платформы вокзала. Весёлые детские головы выглядывают из окон вагона с табличкой: Москва — Артек. Среди них много маленьких испанцев, прибывших из-под Мадрида. Это дети фронтовиков.
Чкалов стоит у вагона и в последний раз смотрит на сына — через день-два предстоит труднейший перелёт через Северный полюс. У сына удивительное сходство с отцом — те же сдвинутые брови, подвижные ноздри и добрые, весёлые ямки на щеках. На отце чёрный пиджак, простая русская косоворотка, он по-рабочему приземист, широкоплеч, могуч.
— Полюбуйся, какие у всех детей интеллигентные лица, — влюблённо гудит Чкалов. — На наших глазах новое поколение растёт. Эх, если бы мы в их годы учились, — сокрушенно вздыхает он.
Мать стоит сзади, она по плечо мужу. Большими встревоженными глазами глядит она на сына — сегодня он отправляется в свой первый самостоятельный рейс. Послезавтра улетает отец… Какие опасности могут встретиться им в пути, кто знает!
Поезд трогается. Чкалов шагает рядом с вагоном, держась рукой за раму окна.
— Учите там маленьких испанцев петь «Интернационал»!
У самого края перрона он останавливается и долго глядит вслед поезду. Дым паровоза, прибитый дождем к земле, стелется по полотну дороги. Валерий Павлович не спеша возвращается обратно.
С вокзала он уезжает в Щёлково: уже больше месяца экипаж живет под Москвой, готовясь к дальнему перелёту.
И вечер не приносит прохлады. Нагретые за день жарким июньским солнцем, каменные дома и мостовые дышат удушливым зноем. У киосков с водой длинные очереди изнемогающих от духоты усталых горожан. Над московскими бульварами висит блеклая, разомлевшая луна. В воздухе лениво кружится лебяжий пух тополей, накапливаясь в сырых канавках и под заборами, он вырастает в пышные кисейные сугробы: лёгкие и нежные, они тихо пошевеливаются от тёплого ветерка проезжающих машин.
У освещённой карты Испании, утыканной разноцветными флажками, толпятся прохожие. И, словно боевые вспышки, из-за огороженного забором строительства метро карту озаряют частые сполохи ослепляющих электросварочных молний. Что-то тревожное, щемящее душу чудится в этих беззвучных лихорадочных вспышках синего огня. В Испании идет война…
Город затоплен цветами, они всюду: на бульварах, в киосках, в петлицах прохожих, в руках влюбленных — белые ландыши, лилии, первые снежинки жасмина, тяжёлые кисти роскошной лиловой сирени.
Два мальчугана волокут по бульвару огромную бельевую корзину, доверху наполненную жёлтыми болотными кувшинками. Следом за ними с трудом тащит ведро с васильками худенький белобрысый мальчик, левая штанина у него завёрнута до колена, и босая нога вымазана чёрной болотной грязью.
Ребята спешат к воротам сада, где гремит весёлая музыка духового оркестра.
Сидеть на бульваре скучно. Решаю позвонить Ольге Эразмовне, нет ли каких новостей от Валерия Павловича. И вдруг слышу в телефонной трубке простуженный бас Чкалова:
— Утром улетаем по маршруту. На полчаса вырвался домой, тайно от всех. Приезжай, а то опоздаешь.
В прошлом году, после окончания полёта на остров Удд, когда экипаж в немыслимую штормовую погоду, сквозь ливни, туманы и грозы прошёл над острыми вершинами неизведанных горных хребтов, прорвавшись к берегам бурного Охотского моря, Чкалов в Кремле впервые высказал вслух свою смелую мечту о перелёте через Северный полюс. Получая орден и грамоту Героя Советского Союза, он сказал:
— Если не в этом, то в будущем году наш маршрут пройдет к берегам Северной Америки!
Тогда это показалось, может быть, слишком дерзким, но в голосе Чкалова прозвучала такая уверенность, что никому не пришло в голову усомниться в его словах…
Дверь открыла Ольга Эразмовна. Ответив на приветствие усталой улыбкой, она молча кивнула на кабинет и направилась в столовую готовить ужин. Из кабинета доносилась музыка.
Присев у окна на корточки, Валерий Павлович крутил пальцем пластинку сломанного патефона, стоявшего на полу. Артист исполнял арию князя Игоря:
Ни сна, ни отдыха измученной душе-е…
Чкалов задумчиво глядел в темнеющее окно и напряжённо вслушивался в трагическую музыку любимой оперы. Прослушав арию до конца, Валерий Павлович снова поставил пластинку на начало, и снова прозвучала тревожная фраза об измученной душе, не знающей ни сна, ни отдыха…
— Вот это музыка! — с благоговением произнес он и, закурив, озабоченно стал прохаживаться по кабинету.
Его суровое лицо было полно глубокой и странной задумчивости. Подойдя к письменному столу, над которым висела школьная одноцветная карта сына, забрызганная чернилами, он без всяких вступлений сказал:
— Из Москвы мы пройдем к Баренцеву морю. Этот отрезок нам хорошо знаком. А дальше — ложимся курсом через Северный полюс.
Я подошел поближе к карте.
— Полюсов, как известно, на севере четыре: географический, магнитный, полюс холода и Неприступности. Вот здесь мы свернём вправо и впервые в истории человечества на одномоторном самолете пересечём этот самый полюс Неприступности… На карте, как видишь, здесь пока белое пятно…
Он взял со стола толстую книгу с вкладкой и медленно, особенно выразительно округляя букву «о», прочитал вслух:
— «Сколько несчастий годами и годами несло ты человечеству, сколько лишений и страданий дарило ты ему, о, бесконечное белое пространство! Но зато ты узнало и тех, кто сумел поставить ногу на твою непокорную шею, кто сумел силой бросить тебя на колени… Но что сделало ты со многими гордыми судами, которые держали путь прямо в твоё сердце и не вернулись больше домой? Что сделало ты с отважными смельчаками, которые попали в твои ледяные объятия и больше не вырвались из них? Куда ты их девало? Никаких следов, никаких знаков, никакой памяти — только одна бескрайняя, белая пустыня!..»
Захлопнув книгу, он бросил её на стол.
— Амундсен.
— А говоря по правде, не побаиваешься?
Чкалов открыто, с какой-то суровой откровенностью поглядел мне в глаза.
— Умереть не боюсь. Умереть всякий сможет. Страшна не смерть, другое… — он помедлил и хриплым, сразу осевшим голосом добавил: — Знаешь, что было сказано мне? «Долетишь, Чкалов, — пять лет войны не будет». Понял?.. Теперь понял, какой груз везу на крыльях?