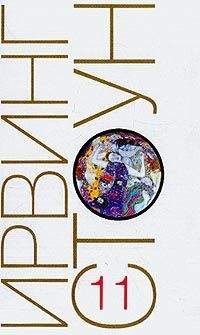Посыльный из университета принес хорошее известие после полудня. Господин доктор Фрейд получил доцентуру девятнадцатью голосами против трех. Ему также тринадцатью голосами против девяти предоставлена субсидия для поездки.
Это был момент величайшей радости.
После того как его тепло поздравили профессор Лей–десдорф и оба Оберштейнера, он пошел в свой кабинет, написал письмо Марте, нанял извозчика до Вены, отослал письмо и после этого посетил родителей. Затем отправился к Брейерам, чтобы поблагодарить их за большую помощь, и, наконец, вечером посетил Эрнста Флейшля. Флейшль открыл бутылку шампанского.
– Зиг, я слышал большую часть того, что происходило. Что касается твоей доцентуры, то спора по сути дела не было. Почему трое проголосовали против, я не могу понять. Но борьба по поводу субсидии была острой. Профессор фон Штельваг выступил первоклассно в пользу Диммера. В твою пользу склонило страстное выступление профессора Брюкке. Он описал тебя как самого блестящего молодого ученого, вышедшего из стен университета за последние годы. Он вызвал всеобщую сенсацию. Никогда никто не видел доктора Брюкке столь разгоряченным, столь убежденным в том, что факультет должен поддержать тебя этой субсидией, ибо от твоей работы с Шарко в Париже будут получены важные результаты.
Зигмунд долго молчал, отпив глоток шампанского. Ясные, суровые голубые глаза Брюкке мерещились ему в стекле бокала.
– Как благодарить человека за такие дела? – задумчиво сказал он.
– Работать, – сказал Флейшль. – Добиться результатов, какие предсказал тебе профессор Брюкке. Твоя первая лекция состоится двадцать седьмого июня в двенадцать тридцать.
Он вдруг осознал все.
– Эрнст, не могу поверить. Теперь я могу поехать в Париж и стать видным ученым, вернуться в Вену со славой, а затем Марта и я поженимся, и я вылечу все неизлечимые нервные болезни.
– За здоровье! – воскликнул Флейшль, поднимая свой бокал.
Книга четвертая: Провинциал в Париже
Он приехал в Париж в начале октября 1885 года и снял на втором этаже отеля «Де ля Пэ» уютный номер, окна которого выходили на улицу Роейр–Коллар и на сады многоквартирного дома на этой улице, заканчивавшейся тупиком. Это была тихая улица близ Люксембургского сада, в получасе ходьбы от больницы Сальпетриер. У отеля с фасадной стороны было всего три окна, и он имел куда более скромный вид, чем частные дома, расположенные напротив. Около кровати на дощатом полу лежал коврик, а гардероб был непомерно вместительным для его скромной верхней одежды, стены оклеены веселыми обоями с розами на золотом фоне, напротив кровати стоял простенький столик, где он разместил свои книги и фотографию Марты.
Фотография Марты… Он продолжал смотреть на нее, выключив свет и открыв окно, через которое струился прохладный осенний воздух. Занавес окна слегка колебался от ветра. С бульвара Сен–Мишель доносился слабый шум. Какой чудесный месяц провели они вместе в Вандсбеке! Он был спокоен, чувствовал себя отдохнувшим, уверенно счастливым в любви.
Зигмунд проснулся рано и прошелся пешком до кафе у входа в Люксембургский сад. Столы были уже заняты спешившими на работу и студентами Сорбонны, до которой оставалось пройти всего один квартал. Когда гарсон в белом фартуке подошел с кофейником и молочником, Зигмунд позволил ему налить себе кофе в чашку, а затем сказал на точном французском языке, выученном им с наставником, которому он платил гульден за каждый урок в Вене:
– Пожалуйста, хлеба.
Гарсон кивнул головой и переспросил:
– Что?
Зигмунд рассердился на самого себя, подумав: «Неужели, читая по–французски со времен гимназии, я не умею попросить хлеба?» Затем он вспомнил название популярного во Франции рогалика. Когда он торжественно произнес это слово, гарсон облегченно вздохнул и принес ему в плетеной корзиночке круассаны – рогалики.
Потягивая кофе, Зигмунд прислушивался к разговорам за соседними столиками и не мог схватить ни одной фразы, ни единого слова. Он простонал: «Как я смогу понимать, а тем более произносить эти окаянные звуки? Что случилось с гласными, которые я выговаривал так отчетливо, читая вслух Мольера и Виктора Гюго? Французы глотают их быстрее, чем свой вкусный горячий кофе».
Зигмунд вышел на свежий октябрьский воздух, вознамерившись завоевать Париж единственным оружием, которым располагал, – ногами. Он думал: «Кто обошел город, тот побеждает его, овладевает им столь же полно, как мужчина женщиной. Я хочу овладеть Парижем так же, как осваивал новую книгу, осмотреть каждую улицу, лавку, толпу, как если бы это был осажденный город, а я – ворвавшийся в него».
Он прошел к Сене, побродил вдоль набережной, восхищаясь архитектурой министерств на Кэ д'Орсэ, перешел реку по мосту Александра III и оказался на широких, окаймленных деревьями Елисейских полях. Бульвар был залит светом и усыпан листвой, пестревшей разноцветьем красок.
Он знал, что Париж в два–три раза больше Вены, но был поражен тем, что улицы тянулись на километры и, казалось, им нет конца. Дойдя до площади Этуаль, откуда начинаются Елисейские поля, он перешел на другую сторону холма, на котором стояла арка, и начал спускаться к Булонскому лесу. Проезжавшие в экипажах женщины были элегантно одеты. По дороге к зверинцу, в Акклиматизационном саду, ему встретились кормилицы с грудными детьми, дети постарше катались в двуколках, запряженных козами, или же смотрели кукольный театр, няни в белых накрахмаленных чепцах разнимали драчунов.
Лишь во второй половине дня он отправился к бульвару Сен–Мишель, восхищаясь потоком янтарного света, заливавшего город. Все в Париже казалось новым, иным, поразительным и в то же время… цельным. В отличие от Вены Париж был городом, не пытавшимся подражать различным стилям и цивилизациям. Париж, как почувствовал Зигмунд, был сам собой, был французским. Ему стало понятно, почему венцы говорили: «Быть в Париже – значит быть в Европе», осознавая, что Вена еще не Европа. Австро–Венгерская империя была территорией, династией и культурой в себе, уникальной, несравненной. А Париж был «отцом городов». Зигмунд устал, но чувствовал себя победителем, ибо каждый пройденный им квартал стал его кварталом, каждое осмотренное им здание не было архитектурно чуждым; Сена, мосты, парки стали близкими ему.
Он дошел до перекрестка улицы Медичи и бульвара Сен–Мишель, до входа в Люксембургский сад, где было около десятка кафе. На открытом воздухе за столиками, тесно прижавшись друг к другу, сидели жены, ожидающие мужей, чтобы выпить рюмку аперитива, молодые люди со своими возлюбленными, студенты университета, художники в беретах и бархатных блузах, оставившие на время свои мастерские, приходили элегантные молодые девушки, они возвращались домой группками или со своими молодыми приятелями, оживленно беседуя и жестикулируя, довольные Парижем, жизнью, друг другом. Он был удивлен, увидев, что парни и девушки пускались в пляс, словно в праздничный день, не замечая окружающих. Он подумал: «Такого не увидишь в Вене. Как чудесно танцевать на улицах, ведь ты молод и находишься в Париже».