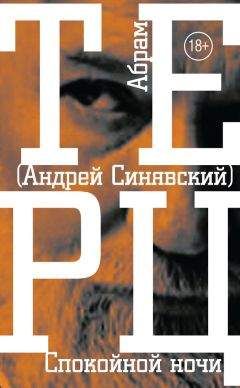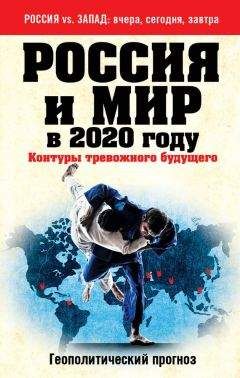21].
Читатель, в отличие от Бальзанова, видит, что в этом образе – ключ к пониманию жизни самого Синявского: «Что вам нравится делать? Мне нравится читать и особенно писать»; «Не могли бы вы одолжить мне несколько франков?». Так же и во внешнем мире: «Тогда огонь!» – это не просто прообраз всех литературных дуэлей, но и аллюзия расстрела Ельциным Белого дома. «Чистое искусство не означает бесстрастное или бессердечное отношение к жизни», но искусство, которое не продиктовано, не использовано в политических или социальных целях, искусство, которое свободно развивает свое независимое, творческое отношение к политике и обществу, в то время как литературная критика, исследующая творческие ассоциации между искусством и жизнью, – это детектив: «Изучайте тайные пути искусства, а не полицейские отчеты» [Бершин 2001: 130; Терц 1994: 8].
Вот о чем «Кошкин дом». По сути, это не что иное, как растянувшийся «золотой шнурок», детский рассказ, детектив, семейный роман, мемуары, дневник, сказка – все в одном; это литература, написанная пластами, слоями, подпитывающими друг друга подвигом творчества, воскрешая его для новой жизни. Здесь не только произведения других писателей, но и все сочинения Терца, от цирка и сальто-мортале Кости (колдун в лагере «прыгает» в тело другой жертвы, продлевая свою жизнь в качестве заклинателя, убегая под самым носом лагерной охраны) до ловкости рук Синявского в «Прогулках с Пушкиным», до графоманов, до расколотой личности в «Ты и Я», до «другого», «постороннего» в «Пхенце» и истории любви в «Гололедице», не говоря уже о колдунах в «Квартирантах» и «Любимове».
Тут все литературные спутники Синявского: Пушкин (сказки), Гоголь (колдуны), Розанов (самоуничижительный стиль Бальзанова), Маяковский (жизнь, превращенная в искусство) и Пастернак, сочетающий в себе самоуничижение и творческий и этический принцип идти на риск, учиться писать по-другому. Синявского можно найти только в литературе, которую и о которой он писал (ср. эпизод с лагерным фокусником [Терц 1998: 97]).
Искусство имеет значение, а не художник, искусство остается, а не художник. Читатель может искать Синявского в центре лабиринта, но он существует только в той мере, в какой существует его искусство, а через него – искусство многих других. Фундаментальная мысль, высказанная Синявским в «Путешествии на Черную речку», и особенно в «Кошкином доме», заключается именно в этом. Писатель может менять свою форму на протяжении веков, но это несущественно, если он передает свое искусство, живое и процветающее, следующим поколениям. Писатель может питаться произведениями других, как автор или как критик, но пока он отдает самого себя, искусство не может не победить.
Повторяя мысль «Путешествия на Черную речку», всю русскую литературу и литературу вообще Супер (последнее воплощение Колдуна) дарит Бальзанову, как писатель – литературному критику, Колдун – Андрюше, а сам Синявский – читателю. По мере того, как проза становится все более фрагментарной, сжатой, очищенной до самой своей сути, увеличивается пространство для мысли читателя, способного сыграть свою роль. Последний закодированный слой «Золотого шнурка» предназначается именно для этого. Если Синявский хорошо сыграет свою роль, читатель соблазнится «таинственными путями искусства», им проложенными; именно и только читатель обеспечит его выживание.
«Это рассказ обо всем на свете и ни о чем в частности» [Терц 1998: 94]. Обращаясь к изобразительному искусству, Синявский проводит параллель между искусством письма и графикой зэка Б. П. Свешникова [249]. Речь о том, что осталось невысказанным: снег, пространство белого холста, пустая страница, которая пока что подсказывает, а не излагает, которая поднимается над обыденным и очевидным, чтобы расширить перспективу. Это сродни идеям «Спокойной ночи» о силе исцеления искусства. Здесь искусство вновь – нечто органическое, начало жизни: «Графичность – как признак жизни, как первое ее проявление» [Терц 1998: 93].
Чистое искусство, подобно «золотому шнурку»: говорит все и не говорит ничего, позволяя читателю заполнять пробелы, когда автор умолкает.
Личная трагедия Абрама Терца – то, что его знают прежде всего как сидельца, тогда как сидельцев в русской литературе было много, а вот прозаиков, с такой отвагой намечавших дальнейшие пути развития отечественной словесности, считанные единицы.
Д. Быков «Терц и сыновья»
Был ли Андрей Синявский героем своего времени? Слова в эпиграфе [Быков 2006] написаны к десятой годовщине его смерти и указывают на то, как до сих пор трудно приспособить человека к его времени, как легко скатиться на привычный образ мученика-диссидента. Оставляя знак вопроса, эта книга представляет собой попытку приблизиться к Синявскому в духе, более для него подходящем, а именно – не для того, чтобы составить его окончательный портрет, а чтобы за него говорили сами его произведения.
В намерения автора не входило судить Синявского, но убрать его из черно-белого контекста, который омрачал большую часть его жизни и отвлекал внимание от того единственного, что имело для него значение и в чем он хотел бы быть запомненным, а именно – русской литературы. Изучение жизни Синявского в контексте литературы было сосредоточено на том, что следует считать величайшим достижением писателя, его вкладом в дальнейшее существование русской литературы, его стремлением восстановить связь писателя с читателем.
Это отнюдь не значит, что Синявский, его жизнь и творчество не имели никакого значения в контексте политических и социальных потрясений его времени; напротив. Скорее, я попыталась перенаправить внимание на тот сложный путь, который питал его жизнь в искусстве, на то, как его эволюция как писателя была бы немыслима без этого активного и творческого обмена. Судьба Синявского-писателя отражает перипетии на советско-российской политической сцене и в советской литературной политике, когда сталинизм сменялся оттепелью, застоем и, в конечном итоге, завершился распадом Советского Союза. Эти этапы, которые Синявский пережил вначале как уважаемый ученый в советской системе, а затем как осужденный преступник, внутренний эмигрант-зэк и, наконец, внешний – за границей, отражены в его работах в обратном своем развитии, в соединении с Россией заново, через литературу.
Более того, несмотря на всю его веру в «чистое искусство», чуждое политики и оторванное от общественных обязанностей, традиционно возлагаемых на русского писателя (особенно в советское время), искусство Синявского было по существу глубоко полемическим в борьбе за продвижение убеждений писателя. И возможно, оно бы не достигло такого расцвета без постоянного преодоления Синявским запретов и «барьеров».
Намерение автора состояло также в том, чтобы представить контекст эпохи в более широкой перспективе, с точки зрения роли и функции искусства и художника в русской культурной традиции. Эта традиция – то, чем сам Синявский занимался как писатель, видя своей задачей воссоединение русской литературы с ее прошлым, чтобы обеспечить не просто ее