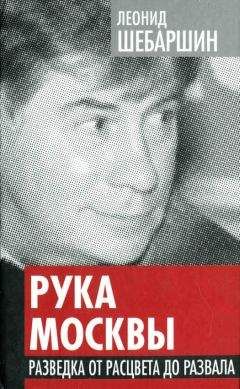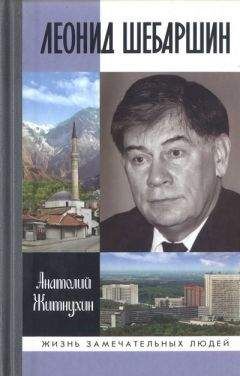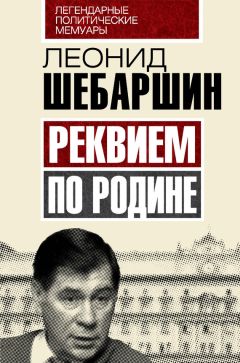Ознакомительная версия.
Июнь и июль 1982 года были тяжелейшим, самым горьким периодом моей жизни. Надо было спасать людей, о которых мог знать предатель. Это удалось сделать быстро и без потерь. Пришлось срочно уехать кое-кому из работников, резко сократить оперативную активность. Я испил до дна чашу унижения, когда отправился к поверенному в делах Англии в Тегеране Николасу Баррингтону для выяснения того, каким образом у Кузичкина оказался английский паспорт. Мне была понятна нелепость этой затеи, но кому-то в Центре пригрезилось, что англичанин выложит мне всю правду. Это был один из тех глупых приказов, которые время от времени приходилось исполнять на протяжение всей службы в КГБ.
Баррингтон был вежлив, даже сочувствовал, обещал посоветоваться с Лондоном... (Почему я не догадался со временем выяснить, кто же в Центре придумал и дал мне это абсолютно идиотское указание? Надо было хотя бы спросить, что этот человек думал. Не узнал, не спросил. Видимо, это и правильно.)
В феврале 1983 года начались аресты руководителей Народной партии Ирана. Оставаться далее в Тегеране не следовало.
15 февраля 1983 года я последний раз взглянул на иранскую землю, на зеленый портовый город Энзели с борта теплохода «Гурьев». Шла по мосту через залив Мурдаб какая-то процессия, парни с флажками орали лозунги, покачивались в ленивой воде рыбацкие лодки, дождик моросил, и было грустно думать, что закончилась еще одна глава жизни.
Раньше, когда был помоложе, неодолимо тянуло вновь побывать в тех местах, где когда-то жил и работал, где остались частицы души. Теперь понял: нельзя возвращаться к старому, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вот и Баку. Тогдашний начальник разведотдела, а ныне председатель КГБ Азербайджана Гусейнов встретил меня с сочувствием и обычным радушием.
В дальнейшем мне довелось неоднократно убеждаться, что в Баку у меня есть хорошие надежные друзья.
Да, а что же с Кузичкиным? Мне известно, что он страдает хроническим алкоголизмом. Думаю, что это безнадежный случай.
Измена оперативного работника— самое серьезное чрезвычайное происшествие для разведки. У этого, как и у любого другого происшествия, есть причины, причины кроются в людях, люди должны быть наказаны за свои упущения и в назидание другим. Ничто в этой простой схеме не вызывало у меня сомнений.
Но не могу сказать, чтобы я чувствовал за собой какую-то конкретную вину. Шпион должен неосторожным движением проявить себя, дать достаточные основания для того, чтобы, пользуясь оперативным термином, «взять его в разработку». Искать шпиона в своих рядах наугад, на всякий случай, невозможно. Этим можно парализовать всю работу, поставить под сомнение честных людей. Подозрительность порождает еще большую подозрительность, невинные действия и обстоятельства приобретают зловещую окраску... Допускать этого ни в одной работающей совместно группе людей нельзя.
Поведение Кузичкина не позволяло заподозрить его в предательстве, однако оно давало основания задуматься, стоит ли дальше держать его на оперативной работе. Так, пожалуй, можно взглянуть на это дело сегодня, когда страсти окончательно улеглись.
Я нес полную, абсолютную ответственность за положение дел в резидентуре. «Знал не знал, не подозревал, не видел причин» и т. п. — это не оправдание. Я должен был быть более бдительным, более проницательным, лучше знать своих подчиненных.
Я не рассчитывал на снисхождение.
Самое тяжелое наказание я уже понес— постоянное гложущее ощущение того, что рушилась с таким трудом и риском возводившаяся структура советской разведки в Иране. Это ощущение не оставило меня полностью до сих пор, и иногда я вспоминаю, как шел по тегеранской улице и мне вдруг показалось, что все происходящее — тяжелый сон и усилием воли я заставлю себя проснуться. (Кстати, подобное ощущение повторилось 22 августа 1991 года.)
К моему возвращению в Москву напряжение вокруг тегеранских дел спало. Мой старший товарищ, под чьим началом когда-то пришлось работать в Индии, Я.П. Медяник посоветовал вести себя тихо (иного у меня в мыслях не было!) и высказал сомнение в вероятности моей скорой, так сказать, реабилитации.
Я не роптал и принял первое же предложение управления кадров — должность заместителя начальника отдела в управлении «Р»— небольшом оперативно-аналитическом подразделении ПГУ.
Долгий отпуск провел, трудясь над записками об Иране. Писал для себя, торопился, боялся упустить еще свежие впечатления исламской революции. И нужно было чем-то заняться, чтобы сбросить постепенно то страшное напряжение, которое нарастало в течение всех моих иранских лет. Перебирая заметки, сделанные еще в Тегеране, перелистывая иранские газеты, революционные брошюры, вновь переживал, осмысливал недавнее прошлое и чувствовал, как персидская лихорадка мало-помалу отпускает меня, как возрождается желание работать, общаться с коллегами.
Маленький кабинет на шестом этаже, великолепный вид на окрестные рощи, неспешная, без рывков, спланированная загодя работа — разбор оперативной деятельности отдельных подразделений: изучение документов, беседы с оперативными работниками, анализ работы с агентурой. Дело, требующее большого внимания, тщательности. Несложно найти огрехи в той или иной операции. Ни один вид человеческой деятельности невозможен без упущений и ошибок. Важно разобраться, где эти упущения вызваны стечением обстоятельств, объективными причинами, а где недобросовестностью, легкомысленным отношением к делу, несоблюдением требований оперативной работы. Такой разбор и доведение его результатов до непосредственно заинтересованных лиц требовали такта. Разведчики сдержанны и дисциплинированны, они спокойно выслушают любое деловое замечание. Но ни в коем случае нельзя недостаточно квалифицированным выводом, грубостью, снисходительностью затрагивать их самолюбие. Анализ, производившийся в управлении «Р», был призван не фиксировать положение дел, а стимулировать более результативную работу.
Судьба предоставила мне возможность взглянуть на работу службы как бы сверху, понять взаимосвязи, механизм принятия и исполнения решений не в конкретных случаях (это было мне знакомо давно), а в принципе.
И вновь мне повезло с руководителем. Управление возглавлял ветеран нашей службы генерал-майор Михаил Григорьевич Котов — натура волевая, организованная, с желчной стрункой. Его до крайности раздражали поверхностные суждения, попытки ввести в работу непродуманные конъюнктурные новации. Михаила Григорьевича уважали за широкую разведывательную эрудицию, способность отсеять зерна от плевел, несколько побаивались за прямоту, а кое-кто и недолюбливал за нетерпимость к глупости и разболтанности.
Ознакомительная версия.