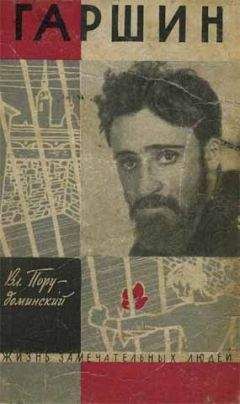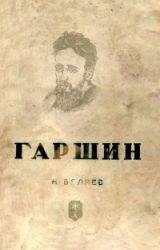Совы широко простерли крыла и заслонили солнце. Но яркие лучи прорывались, вспарывали тьму, напоминали о пламенных рассветных зорях. Последним всплеском героизма «Народной воли» было смело задуманное покушение на царя 1 марта 1887 года — новое «первое марта», но неудачное. И снова пятеро поднялись на эшафот, и среди них чудесный юноша, мудрый и храбрый беззаветно, — Александр Ульянов. В Женеве плехановская группа «Освобождение труда» открывала для России марксизм, и сам Энгельс писал членам группы: «…Я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса…»[11] А в Орехово-Зуеве на «Саввы Морозова сына и К0» Никольской мануфактуре ткач Петр Моисеенко, сподвижник Плеханова и Халтурина, поднял против хозяев восемь тысяч рабочих — и правительство дрогнуло, уступило. В 1886 году появился новый закон о штрафах. За первое пятилетие после 1881 года восемьдесят тысяч рабочих участвовали в стачках. Рабочие стачки были пророчеством более грозным и верным, чем стихотворные строчки.
«…Мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль реакционных периодов. Мы знаем, что форма общественного движения меняется, что периоды непосредственного политического творчества народных масс сменяются в истории периодами, когда царит внешнее спокойствие, когда молчат или спят (повидимому, спят) забитые и задавленные каторжной работой и нуждой массы, когда революционизируются особенно быстро способы производства, когда мысль передовых представителей человеческого разума подводит итоги прошлому, строит новые системы и новые методы исследования».
Так писал Ленин[12].
Темной ночью нужно уметь видеть алый размах и золотые россыпи рассвета.
В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина…
Гаршин видел себя в прошлом и не видел в будущем. Настоящего почти не осталось. То, что осталось, он знал наизусть.
Пять верст туда, пять — обратно. Коньки с веселым, легким треском резали лед. Поворот — у святотроицкого маяка. Уже здесь, в пяти верстах от дома, Гаршин знал, что будет дальше. Обед, чтение газет и журналов, вечерняя партия в шахматы с дядей Владимиром Степановичем. Дни были размеренны и заранее известны. Гаршин писал: «Внешних фактов — никаких». Дни были одинаковы. Вчерашний день заканчивался, чтобы повториться сегодня и завтра. Время крутилось вхолостую. Оно двигалось вокруг и не двигалось вперед. Вертелось как белка в колесе — колесо вертится, белка стоит на месте. Лед плавно плыл под ногами.
— Мат! — Дядюшка передвинул ладью и потирал руки, довольный.
А Всеволод только рад был, что партия закончилась, — тотчас удрал наверх, в свою комнату.
От зажженной лампы тьма за окном еще чернее, еще гуще. Гаршин уселся поудобнее в кресле, раскрыл книгу. Начался его, не размеренный заботливым дядюшкой час. Этот час не был известен заранее. Книги прокладывали тропинки мыслям. Мысли двигались вольно и рождали неожиданное.
Гаршин раскрыл Гюго. Он изучал французскую поэзию. Стихотворение называлось «Джинны». Это была ловкая штука. Воистину турдефорс стихоплетства. Стая духов стремительно проносилась над головой. В стихах слышался страшный вой, метались черные тени. Строчки — то длинные, то короткие, в одно слово, — стремительно сближались и вдруг, оттолкнувшись друг от друга, разлетались в разные стороны.
О боже! Голос гроба!
То джинны!.. Адский вой!
Бежим скорее оба
По лестнице крутой!
Фонарь мой загасило,
И тень через перила
Метнулась и застыла
На потолке змеей…
Поэт пугал себя и делал вид, что пугается, — он изображал вопль испуганного безумца. Гюго изображал. Он не знал, что ужас безумия не в красивой путанице воя и черных теней. Ужас безумия — в ясности. Вот Пушкин — тот понимал это. «Не дай мне бог сойти с ума». Если бы можно было бродить в пламенном бреду по темному лесу, забыться в нестройных грезах! А то ведь посадят на цепь дурака. И
…ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
Тропинка от стихотворения вела в прошлое.
…Гаршин видел себя в прошлом.
Там была дача, похожая на мрачную каменную казарму, — Сабурова дача! И звон оков: Гаршин помнил, как долгие часы тряс решетку на окне. И дикое, непонятное озлобление смотрителей. (Вода, недовольно урча, падала в ванну. Он стоял раздетый. Задумался. Пробегали в голове затуманенные и оттого еще более милые картины далекого детства. Вдруг страшный удар в грудь. Он упал. Так смотритель объявил ему, что пора залезать в ванну. «За что ты меня ударил?.. За что?..» За что?! Людей били и за стенами сумасшедшего дома и тоже не объясняли за что.)
Воспоминания сплетали прошлое с настоящим, омрачали настоящее.
«…Помимо воли голова перебирает всевозможные воспоминания и все-то такое неприглядное, постыдное». Ужас безумия — в ясности.
…Лед плыл из-под ног. Ветер хлестал по щекам. Морозный воздух властно врывался в легкие.
С каждой верстой все дальше позади оставалась болезнь.
В дядюшкином селе Ефимовке, на Днепровско-Бугском лимане, Гаршин лечился покоем. Покой начался сразу — в вагоне, куда погрузил его Владимир Степанович. Всеволод с интересом разглядывал купленные детям механические игрушки. Веселый игрушечный медведь с ревом ходил по вагону. Гаршин смеялся.
Из лечебницы Гаршина взяли домой, дядя увез его из дома. Одиночество бывает разным. В больнице Гаршина делала мучительно одиноким болезнь. Дома — раздражающее ощущение, что он лишний. В Ефимовке он был одиноким от покоя. Он словно висел, не всплывая и не погружаясь на дно, в наполненной густым, как мед, покоем банке. Строгий корабельный распорядок рассекал дни (мужчины в акимовском роду были моряками). Дядя отнял у Гаршина «внешние факты». Как нагретая солнцем земля отдает ночью накопленное за день тепло, так и Гаршин успокаивался, теряя понемногу кипевшие внутри впечатления. Покой лечил, как мед. Время и пространство замкнулись вокруг. Их пробивала только мысль.
…Пять верст до маяка и пять — обратно. Обед. Журнал. «Мат!..» — дядя торжественно поставил ферзя на последнюю горизонталь. Зажженная лампа. Раскрытая книга. Гаршин изучал французскую поэзию. Он читал Мюссе. Мюссе ему не нравился: «тужится быть умным и изящным».