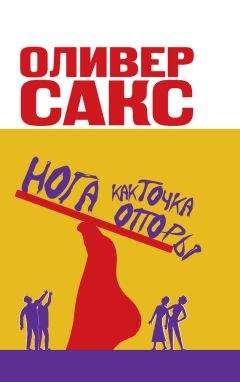Практика Фрейда — сначала неврологическая, затем аналитическая — не привела его к контактам с подобными случаями, подобными феноменами; однако Бабинский ими занимался, особенно во время Первой мировой войны. Книга Бабинского, вышедшая в 1917 году, обобщала множество наблюдений за параличом, отчуждением, неиспользованием и другими синдромами, возникающими вследствие периферических поражений, синдромов, которые не могут быть названы ни органическими, ни истерическими, — синдромов, которые, как считал Бабинский, составляли «третью область» и требовали совершенно иного понимания. Такие синдромы, был уверен Бабинский, по природе физиологические; он говорил них, как и в названии своей книги, как о Syndrome Physiopathique. Подобно Уэйру Митчеллу и другим до него, Бабинский утверждал, что «шок», рефлекторное (возможно, синаптическое) торможение, распространяется на непосредственные окрестности повреждения и спинной мозг; однако затем на более высоком уровне в мозгу возникает поражение, сходное с анозогнозией, которую он первым описал в случаях повреждений правого полушария мозга. Работа Бабинского предшествовала выдвинутым Хэдом концепциям «постуральной схемы» или «образа тела» и не упоминала о явно неклассических наблюдениях, которые делал Шеррингтон в отношении повседневных изменений сенсорных и моторных точек в коре мозга экспериментальных животных, показывавших неожиданную пластичность мозга. Наблюдения Бабинского, как и данные Хэда и Шеррингтона, противоречили представлениям о жесткой церебральной локализации и репрезентации, представлениям о жестко запрограммированной церебральной машине, доминировавшим в XIX веке, и указывали на принципы организации, которые были совершенно иными, более пластичными, более динамичными.
Однако ни Бабинскому, ни Хэду, ни Шеррингтону — так же как позднее Лурии и Леонтьеву — не удалось выявить действующие механизмы, принципы которых они интуитивно улавливали. Не удавалось это и мне, когда в 1974 году я столкнулся с собственной проблемой и обдумывал ее (и проблемы других пациентов) на протяжении последующих лет. Я ясно видел, что подобные ощущения имели физиологическую причину, однако не вызывало сомнения и то, что они не могут быть соотнесены с классической моделью. Мне было понятно, что нужна «неврология идентичности», неврология, которая могла бы объяснить, как различные части тела (и их пространство) могли бы принадлежать (или теряться), показать неврологический базис когерентности и унификации восприятия (особенно после того, как таковое было нарушено травмой или болезнью). Нужна была неврология, которая могла бы выйти за рамки жесткого дуализма тела/разума, жестких физикалистских представлений об «алгоритме» и «паттерне», неврология, которая была бы сравнима по богатству и насыщенности с опытом, с ощущением «сцены» и «музыки», постоянно меняющегося потока восприятия, истории, становления.
Однако мне оставалось неясным, как можно реализовать такую неврологию, и к завершению книги у меня возникло, как я теперь думаю, странное отклонение в сторону мистики — кантовских сфер a priori. Я раскаиваюсь и отказываюсь теперь от этого кантовского заблуждения, однако прийти к нему я был вынужден, как мне кажется, ограничениями физиологии и физиологической теории, которая в 1970-е годы не могла объяснить мои ощущения или какие-либо высшие уровни восприятия и языка. Я не был первым и не буду последним, кто вынужден вступить на этот путь41.
Происшествие 1984 года с моей правой ногой убедило меня, что время играет ключевую роль в поддержании (или распаде) «образа тела». «Хорошее» течение дел, столь отличное от 1974 года, было результатом отчасти везения (я упал недалеко от больницы, и прооперировали меня без задержек), отчасти эксплицитного понимания важности быстроты в таких случаях. В 1974 году было принято предписывать постельный режим или ограниченные движения после травмы или ампутации конечности, и длительные нарушения «образа тела» были довольно распространены. К 1984 году подход радикально изменился: при ампутации ноги пациенту немедленно предоставляется временный протез и предлагается с его помощью сойти с операционного стола; такие больные, как я, перенесшие травму ноги, снабжаются гипсовой повязкой, позволяющей ходить, и поощряются в том, чтобы сразу же пользоваться такой возможностью. Как было обнаружено, таким образом удается свести к минимуму любой хиатус в действиях и минимизировать любое уменьшение или изменение «образа тела» — я сам убедился, как быстро это может случиться, когда почувствовал себя лишенным плеча через несколько часов после наложения гипса. То, что время имеет чрезвычайную важность, стало общеизвестным среди ортопедов, хотя еще и требует экспериментального прояснения. И помимо этих вопросов образа тела — потому что «образ тела» может быть первым ментальным конструктом и самоконструктом, тем, который служит моделью для всех остальных, — возникают самые общие вопросы конструкции (и разрушения и реконструкции) всех перцептивных категорий, тех систем (пространственной и иных), в которые они помещаются, вопросы памяти, деятельности, сознания, разума — целая пирамида размышлений, вызванных образом тела.
Технический прогресс, сделавший возможным изучение этих вопросов (по крайней мере самых элементарных), заключался в использовании больших наборов электродов, дающих возможность фиксировать одновременно активность и ее смену в сотнях нейронов, выявляя обширные сенсорные карты и поля в коре головного мозга у живого, возбужденного, воспринимающего человека. Такие исследования, технически невозможные до 1980-х годов, революционизировали наше понимание (взрослого) мозга и его пластичности, а в особенности наше понимание нарушений образа тела после деафферентации или ампутации и выздоровления после них. Особенно велики заслуги в этой области Майкла Мерзенича из Сан-Франциско.
Мерзенич и его коллеги изучали эффекты сенсорной деафферентации (наложения повязок и гипса на конечности или рассечения сенсорных нервов) и ампутации, а также тактильной стимуляции и использования на репрезентацию руки в сенсорной коре. Они показали, что с прекращением поступления сенсорных сигналов от руки происходит быстрое уменьшение или угасание ее карты в коре одновременно с быстрой реорганизацией остающихся входных сигналов. Эти эксперименты показали, что не существует постоянно зарезервированной области для какой-либо части тела. Например, не существует фиксированной области руки. Если рука деафферентирована или инактивирована на какое-то время, она теряет свое место в сенсорной коре. Ее бывшее место в течение часов или дней быстро оказывается занято картами остального тела, так что теперь мы получаем новую, «безрукую» карту тела в коре. Внутренняя репрезентация инактивированной или деафферентированной части тела отчетливо исчезает, полностью и без следа, исчезает без малейших остатков.