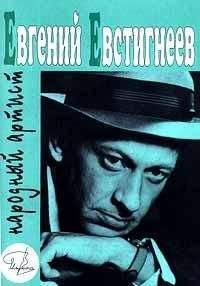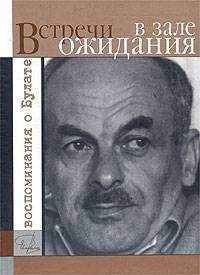В Лондоне он уже был два раза, на съемках и на гастролях, тоже, конечно, просидел свободное время в номере, но ему этого было довольно. Мы остались дома. Он немного волновался, но к вечеру и это прошло. Мы поехали на машине смотреть вечерний Лондон, зашли в какую-то таверну, выпили пива. У него было роскошное настроение – никакого страха, никаких дурных предчувствий. Он, казалось, сгорал от любопытства – как ему будут делать операцию, – рассказывал, как он себе все это представляет. Ночью я проснулась от того, что увидела во сне, как он курит. Я включила свет: он сидел и курил. Прежде такого никогда не бывало. Я рассердилась, заставила его выбросить сигарету и лечь спать и только мельком подумала, что, должно быть, он все же очень волнуется. Через некоторое время он опять проснулся и включил свет. Он был в холодном поту и дрожал, как маленький ребенок. «Я сейчас умру». Я стала успокаивать его: «Зачем ты себя раньше времени хоронишь?»
Он уснул. Утром мы поехали в клинику. Ему должны были сделать обследование, маленькую предварительную операцию – коронарографию – и оставить в клинике до утра, чтобы оперировать. Ночные страхи были забыты, он шутил и снова был в прекрасном настроении. Пока ему делали анализы, я пошла погулять, а часа через два вернулась к нему в палату и села около его кровати. Евгений Александрович сказал: «Езжай-ка ты домой. Что здесь сидеть? Приедешь завтра утром, перед операцией, а чтобы тебе не было скучно, я тебе позвоню сегодня вечером». Я решила дождаться Тэрри Льюиса и врача из нашего посольства, исполнявшего обязанности переводчика. Полчаса мы сидели вместе, шутили, разговаривали. Евгений Александрович с утра ничего не ел перед обследованием и послал меня сказать медсестре, что он голоден. Я сходила, вернулась к нему: «Через пять минут они тебя покормят».
За эти пять минут он умер…
Все происходило так быстро, что теперь эти события прокручиваются в моем мозгу как ускоренная съемка в кино. Только я ему это сказала, вошли Тэрри Льюис и посольский врач. У Льюиса в руках был лист бумаги, он стал говорить и рисовать, а посольский врач переводил, очень быстро без пауз: «Я ознакомился с вашей историей болезни, завтра мы будем вас оперировать, но у нас принято предупреждать пациента о возможных последствиях операции. Вот ваше сердце – он нарисовал, – в нем четыре сосуда. Три из них забиты полностью, а четвертый забит на девяносто процентов. Ваше сердце работает только потому, что в одном сосуде есть десять процентов отверстия. Вы умрете в любом случае, сделаете операцию или нет!» В переводе слова звучали буквально так.
Евгений Александрович весь похолодел. Я держала его за руку. Я увидела, как он покрылся испариной и стал тяжело дышать носом. Когда ему становилось плохо, я всегда заставляла его дышать носом, по Бутейко. Я поняла, что с ним что-то случилось. Что-то стало происходить в его сознании, он испугался этого нарисованного сердца. Я заговорила с ним, стала утешать, и в это время какие-то люди, которых я не успела рассмотреть, оторвали меня от его руки и быстро куда-то повели. На экране, где шла его кардиограмма, я успела заметить прямую линию, но ничего еще не понимала и испугалась по-настоящему только тогда, когда меня стала утешать медсестра.
Пришел посольский врач: «Наступила клиническая смерть. Но вы не волнуйтесь, его из клинической смерти вывели, он очнулся». Господи, если бы рядом стояла я, кто – нибудь, кого он знал, он бы очнулся навсегда… Я представила: он пришел в себя – кругом все чужое, английского языка он совсем не знает… Я слышала суету в коридоре, это Евгения Александровича срочно повезли на операцию…
Четыре часа я просидела в этой комнате. Посольский врач прибегал с новостями: «Он умирает»… «Он жив». Меня раздирал истерический хохот: все это походило на дикий розыгрыш. Сидя у окна, я смотрела через внутренний двор на окна реанимационной, куда Евгения Александровича должны были привезти после операции. Сто раз открывалась там дверь, приходили и уходили какие-то люди, но его так и не привезли. Вместо этого опять появился посольский врач:
– Операция закончена, но ваш муж умирает. Операцию провели блестяще, но нужна пересадка сердца.
– Ну так сделайте!
Я была потрясена тем, как холодно он произнес:
– Нельзя, это обговаривается заранее. Поэтому мы отключили его от всех аппаратов.
– Кто вам дал право?! Я позвоню нашим друзьям в Австралию, мы найдем донора… Не могли бы вы продержать его хотя бы несколько дней?
– Нет, это надо обговорить заранее.
Вошел Тэрри Льюис: «Я вынужден вам сообщить, что ваш муж скончался…»
Через полчаса разрешили войти к нему…
Он лежал удивительно красивый. Я обняла его и почувствовала, что он теплый… Не может быть человек теплый и мертвый… Я умоляла его не оставлять меня, – это длилось, кажется, долго-долго…
Потом я вдруг почувствовала, что это не он, что я разговариваю уже не с ним. Если бы это был он, все было бы по-другому, он бы ответил. Я помню этот миг своего сознания, помню, как у меня началась истерика, как я билась на полу, как очнулась от запаха какого-то лекарства…
Могли ли мы представить, каким окажется наше возвращение из Лондона… Мне вернули оставшиеся от операции деньги, за которые был выбран по каталогу самый красивый гроб ручной работы из красного дерева, одежда – саван, расшитая серебром и золотом. Кто-то из посольских сказал, что гроб слишком тяжелый, что за такой вес можно перевезти пять тел. Я орала на него: он вам не тело, он великий русский артист. Атташе по культуре собирался устроить «светский раут» с гостями и прессой – отпевание Евстигнеева в лондонской часовне; слава Богу, без этого обошлось. Приезжала Ванесса Редгрейв, чудная актриса, сердобольная женщина, подруга Галины Борисовны Волчек и приятельница Евгения Александровича, попрощаться с ним и утешить меня…
Когда я садилась в самолет, господа из посольства, перестав называть Евгения Александровича «телом», были любезны и предупредительны: «Не волнуйтесь, Евгений Александрович с вами, все в порядке, все замечательно…» Мы возвращались в Москву.
Не перестаю искать объяснений его смерти. Она была абсолютно нелогична, абсурдна. Ведь я видела это своими глазами – спокойный, веселый человек умер сразу после того, как ему нарисовали его сердце и сказали: вот так вы можете умереть.
И я нахожу единственный ответ: его гениальное воображение. Так же как он мог представить себе любую страну, выйдя на полчаса на улицу, так же он представил себе смерть… Он вошел в нее, как в очередную роль.
Остальное – дело медицины. Наступила клиническая смерть, он почувствовал ее и вернулся, но сердце его было слишком изношено и удар слишком силен.