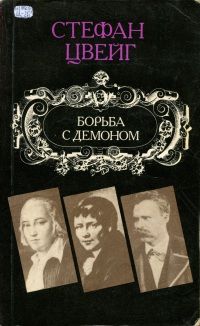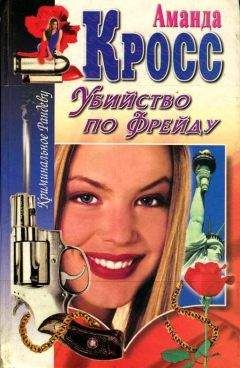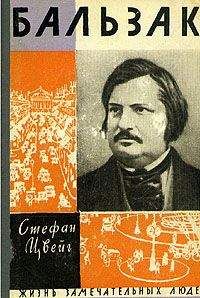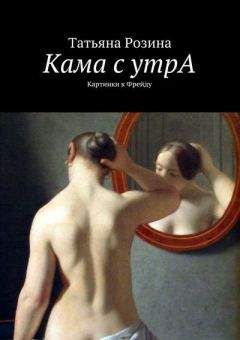Облик человека. Скромная столовая недорогого пансиона где–нибудь в Альпах или на Лигурийском побережье. Безразличные обитатели пансиона преимущественно пожилые дамы, развлекаются causerie, легкой беседой. Трижды прозвонил колокол к обеду. Порог переступает неуверенная, сутулая фигура с поникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры ощупью выбирается на свет. Темный, старательно почищенный костюм; лицо, затененное зарослью волнистых, темных волос; темные глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков. Тихо, даже робко, входит он в дверь; какое–то странное безмолвие окружает его. Все изобличает в нем человека, привыкшего жить в тени, далекого от светской общительности, испытывающего почти неврастенический страх перед каждым громко сказанным словом, перед всяким шумом. Вежливо, с изысканно чопорной учтивостью, он отвешивает поклон собравшимся; вежливо, с безразличной любезностью, отвечают они на поклон немецкого профессора. Осторожно присаживается он к столу — близорукость запрещает ему резкие движения, — осторожно пробует каждое блюдо — как бы оно не повредило больному желудку: не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус, — всякое уклонение от диэты раздражает его чувствительный кишечник, всякое излишество в еде чрезмерно возбуждает его трепещущие нервы. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют его меню; ни сигары, ни папиросы не выкурит он после обеда; ничего возбуждающего, освежающего, развлекающего: только скудный, наспех проглоченный обед, да несколько незначительных, светски учтивых фраз, тихим голосом сказанных в беглом разговоре случайному соседу (так говорит человек, давно отвыкший говорить и боящийся нескромных вопросов).
И вот он снова в маленькой, тесной, неуютной, скудно обставленной меблированной комнате; стол завален бесчисленными листками, заметками, рукописями и корректурами, но нет на нем ни цветов, ни украшений, почти нет даже книг, и лишь изредка попадаются письма. В углу тяжелый, неуклюжий сундук, вмещающий все его имущество — две смены белья и второй, поношенный костюм. А затем лишь книги и рукописи, да на отдельном столике бесчисленные бутылочки и скляночки с микстурами и порошками: против головных болей, которые на целые часы лишают его способности мыслить, против желудочных судорог, против рвотных спазм, против вялости кишечника и, прежде всего, ужасные средства от бессонницы — хлорал и веронал. Грозный арсенал ядов и снадобий — его спасителей в этой пустынной тишине чужого дома, где единственный его отдых в кратком, искусственно вызванном сне. Надев пальто, укутавшись в шерстяной плед (печка дымит и не греет), с окоченевшими пальцами, почти прижав двойные очки к бумаге, торопливой рукой часами пишет он слова, которые потом едва расшифровывает его слабое зрение. Так сидит он и пишет целыми часами, пока не отказываются служить воспаленные глаза: редко выпадает счастливый случай, когда явится неожиданный помощник и, вооружившись пером, на час–другой предложит ему сострадательную руку. В хорошую погоду отшельник выходит на прогулку — всегда в одиночестве, всегда наедине со своими мыслями: без поклонов, без спутников, без встреч совершает он свой путь. Пасмурная погода, которую он не выносит, дождь и снег, от которого у него болят глаза, подвергают его жестокому заключению в четырех стенах его комнаты: никогда он не спустится вниз к людям, к обществу. И только вечером — чашка некрепкого чаю с кексом, и вновь непрерывное уединение со своими мыслями. Долгие часы проводит он еще без сна при свете коптящей и мигающей лампы, а напряжение докрасна накаленных нервов все не разрешается в мягкой усталости. Затем доза хлорала, порошок от бессонницы, и наконец — насильственно вызванный сон, сон обыкновенных людей, свободных от власти демона, от гнета мысли.
Иногда целыми днями он не встает с постели. Тошнота и судороги до беспамятства, сверлящая боль в висках, почти полная слепота. Но никто не подойдет к нему, чтобы оказать какую–нибудь мелкую услугу, нет никого, чтобы положить компресс на пылающий лоб, никого, кто бы захотел почитать ему, побеседовать с ним, развлечь его.
И эта меблированная комната — всегда одна и та же. Меняются названия городов Сорренто, Турин, Венеция, Ницца, Мариенбад, — но меблированная комната остается, чуждая, взятая напрокат, со скудной, нудной, холодной меблировкой, письменным столом, постелью больного и с безграничным одиночеством. И за все эти долгие годы скитания ни минуты бодрящего отдыха в веселом дружеском кругу, и ночью ни минуты близости к нагому и теплому женскому телу, ни проблеска славы в награду за тысячи напоенных безмолвием, беспросветных ночей работы! О, насколько обширнее одиночество Ницше, чем живописная возвышенность Сильс — Мариа, где туристы в промежуток между ленчем и обедом «постигают» его сферу: его одиночество простирается через весь мир, через всю его жизнь от края до края.
Изредка гость, чужой человек, посетитель. Но слишком уже затвердела кора вокруг жаждущего общения ядра: отшельник облегченно вздыхает, оставшись наедине со своим одиночеством. Способность к общению безвозвратно утрачена за пятнадцать лет одиночества[106], беседа утомляет, опустошает, озлобляет того, кто утоляет жажду только самим собой и постоянно жаждет только самого себя. Иногда блеснет на краткое мгновенье луч счастья: это — музыка. Представление «Кармен» в плохоньком театре в Ницце, две–три арии, услышанные в концерте, час–другой, приведенный за роялем. Но и это счастье сопряжено с насилием: оно «трогает его до слез». Недоступное уже утрачено настолько, что проблеск его причиняет боль.
Пятнадцать лет длится это поддонное странствование из chambre garnie в chambre garnie — незнаемый, неузнанный, им одним лишь познанный, ужасный путь в стороне от больших городов, через плохо меблированные комнаты, дешевые пансионы, грязные вагоны железной дороги и постоянные болезни, в то время как на поверхности эпохи до хрипоты горланит пестрая ярмарка наук и искусств. Только скитания Достоевского почти в те же годы, в таком же убожестве, в такой же безвестности освещаются тем же туманным, холодным, призрачным светом. В течение пятнадцати лет восстает Ницше из гроба своей комнаты и вновь умирает; в течение пятнадцати лет переходит он от муки к муке, от смерти к воскрешению, от воскрешения к смерти, пока не взорвется под нестерпимым напором разгоряченный мозг. Распростертым на улице Турина находят чужие люди самого чужого человека эпохи. Чуждые руки переносят его в чужую комнату на Via Carlo Alberto[107]. Нет свидетелей его духовной смерти, как не было свидетелей его духовной жизни. Тьмой окружена его гибель и священным одиночеством. Никем не провожаемый, никем не узнанный, погружается светлый гений духа в свою ночь.