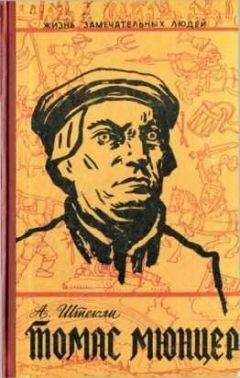Смута не затихала. Попытки успокоить крестьян посулами справедливого соглашения большого успеха не имели. Тревожные вести шли со всех сторон. Там опять спалили принадлежащий монастырю овин, здесь отказались давать аббату яйца и кур. В одной деревне встретили камнями сборщика налогов, в другой — разорили садки. Ночью у замка какие-то горлопаны выкрикивали угрозы и предерзко обзывали благородного рыцаря «старым псом». В господском лесу стучали топоры мужиков. Барину, известному своей надменностью, заявили: «Все мы отныне братья!» Его обрядили в крестьянскую одежду и заставили, встречая мужиков, снимать шапку. Монахам порвали сутаны. Пусть-ка они, лоботрясы, учатся полезному ремеслу. В охотничьем угодье подстрелили оленей. Несколько сел порешили сложиться и нанять ландскнехтов, чтобы те защищали их от господ. Соседи думали иначе: на общие деньги лучше купить пищалей да побольше пороху. Собираясь в отряды, крестьяне присягали не расходиться, пока не настоят на своем. А в Тургау, мужики поклялись не брить бороды вплоть, до освобождения.
На сходках чаще и громче раздавались голоса, призывающие не верить в полюбовное соглашение с волками дворянами, а силой добиваться правды. Тех, кто, побаиваясь кары, хотел остаться в сторонке, рьяные бунтовщики во всеуслышание поносили как последних иуд и в знак позора вбивали им кол у крыльца. Они крепко держались за знамя и ни за что не желали отдавать оружия, считая, что их сообщество, их сговор, освященный присягой, должен быть непременно сохранен и упрочен.
Видно, наступила година неслыханных бедствий, которую настойчиво предсказывали астрологи и вещуны. Господа и за крепкими стенами не чувствовали себя в безопасности. Страх не ждал, пока перед ним опустят подъемные мосты и отомкнут тяжелые запоры. Хозяином пришел он и в рыцарские замки и в особняки толстосумов. Тревожило все: ночные крики, поджоги, клятвы на сходках, тайные сговоры, не внесенные платежи, разграбленные часовни, вооруженные толпы, подстрекатели, выступающие против переговоров, посланцы подмастерьев в крестьянских лагерях, ширящийся повсюду дух непокорности.
Но куда страшней, чем толпы бунтующих то там, то тут мужиков, были новые, досель неизвестные настроения, которые все больше и больше овладевали умами. Крестьянские выступления, разрозненные и стихийные, можно было подавить. Надо было только выиграть время, поправить финансовые дела, навербовать наемников или дождаться, пока несколько ослабнет угроза турецкого нашествия или пока император, воюющий в Италии, побьет французов и пришлет сюда часть своих войск. Но как бороться с духовной заразой?
Какие-то злоумышленники всеми силами стремятся сплотить крестьян, связать их с городской голытьбой, объединить всех недовольных под одним знаменем. В этом таилась главная опасность. Теперь попытка вооруженной расправы с бунтовщиками грозила ввергнуть всю страну в кровавую межусобицу. Но и медлить с наказанием непокорных было очень рискованно. Успехи сеятелей крамолы были налицо, и связаны они были с вполне определенным и пагубным толкованием божьего права.
Ярые приверженцы старой веры узрели и в этом вину Лютера. Все мятежи и возмущения вызваны его книжкой «О свободе христианина»! Ведь это виттенбергский ересиарх объявил, что все христиане равны и все в одинаковой степени искуплены драгоценной кровью Иисуса. Вот мужик теперь и требует бог знает чего. Но эти попреки — плод ослепляющей ненависти — были напрасны. Всем существом своим Лютер был против «плотского» понимания свободы. Люди равны, но только во Христе! Царство божье не от мира сего. А здесь, на земле, должно существовать неравенство, должны быть господа и подданные. Мужиков надо облагать тяжкой податью, чтобы души их не преисполнялись гордыни. Каждый должен одинаково честно и безропотно нести свои обязанности: земледелец трудиться на пашне, князь — править. Да будет человек покорен судьбе и властям!
Господа, из тех, кто позорче, не валили на Лютера чужую вину. Конечно, папистам не сладко от его учения, но зато князьям, особенно если они хотят положить в свой карман монастырские доходы, жаловаться не на что: Лютер изо всех сил старается им угодить. Вот с проповедниками вроде Губмайера дело обстоит хуже: они часто хватают через край.
Первое время казалось, что все, даже самые отъявленные смутьяны, орудующие среди крестьян, действуют по прямому наущению Вальдсхута. Однако эти обвинения были чрезмерными. Вальдсхутцы соглашались, что священное писание — источник божьего права, но решительно возражали, когда крестьяне брались судить, соответствуют ли Евангелию обременяющие их повинности. Это должны делать не темные мужики, а уважаемые ученые из Цюриха или Вальдсхута. А пока они не высказались, все должно оставаться по-старому. Решать же споры, связанные с платежами и повинностями, должны сами власти. Даже габсбургский наместник, тот, который кричал вальдсхутцам: «Ваше право — ваш князь!» — может в духе существующих законов рассудить, кто прав, кто виноват. С таким божьим правом еще можно было мириться — оно легко позволяло признавать домогательства господ законными и обоснованными.
Куда страшнее было иное толкование божьего права, которое очень пришлось по вкусу мужикам и черни. Они не будут ждать разъяснений книжников, они сами знают, в чем божье право, — в создании совершенно нового уклада жизни, построенного на принципах общей пользы, равенства и братства! Все люди из народа обязаны участвовать в этом святом деле и, объединившись, полностью освободиться.
В таком учении как раз и был самый страшный яд. И распространяли его не лютеровы проповедники, не реформаторы из Вальдсхута — Мюнцер со своими единомышленниками настойчиво забрасывал его в мятежные души.
В деревнях и городах все больше людей разделяли именно это наизловреднейшее понимание божьего права.
Воистину дьявол, как сказал доктор Мартин, действует через смятение умов!
В Клеттгау, лесном, неспокойном краю, где, начиная с ноября, село за селом отказывались повиноваться господам, Мюнцер пробыл дольше всего. Он не сидел на одном месте. Сегодня его видели в избушке дровосеков, а через несколько дней он был уже за тридевять земель. Чтобы его найти, надо было ехать в деревню Гриссен, в нее он возвращался постоянно. Сюда доставляли письма. Здесь собирались ходоки из разных деревень.
Мюнцер не был похож на военачальника. Он не проводил военных учений и не брался растолковывать сельским кузнецам, как мастерить самодельные пушки. Сидя на лошади, Томас мог произнести речь, но не отдавал команд. Он прекрасно понимал, что любой крестьянин, служивший смолоду в ландскнехтах, куда лучше него знает, как обращаться с пищалью или разбивать лагерь. Письма свои он подписывал «Томас Мюнцер, воитель господен», и был он больше воином, чем многие умудренные в ратных делах люди. Какой толк, что ты умеешь запалить ружье, если душа твоя полна смирения и в господах ты видишь ниспосланную богом власть, ослушаться которой — смертный грех?