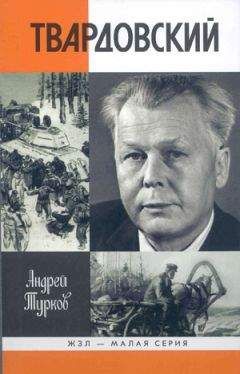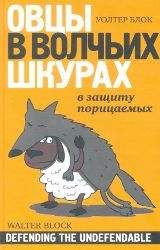— Садись — поднесу, — спокойно предложил он, блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.
Это „поднесу“ было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.
— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри…»
Тут запись обрывается, и Твардовский — летом 1942 года — добавляет:
«И мне таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».
Не так ли и новый Тёркин говорит-то о «закуске», а вздыхает о многом ином, дорогом и невозвратимом?
Критик старательно обходит те эпизоды, где, вопреки его утверждениям, Тёркин явно «подымается до политических категорий», раздражая былого друга, вполне смирившегося с загробными порядками. Самостоятельность и смелость его суждений не по нутру ни бедному покойнику, ни… автору статьи:
— Посмотрю — умен ты больно!
— А скажи, что не умен!
Прибедняться нет причины:
Власть Советская сама
С малых лет уму учила —
Где тут будешь без ума!
На ходу снимала пробу,
Как усвоил курс наук.
Не любила ждать особо,
Если понял что не вдруг.
И не Тёркин ли своими въедливыми расспросами заставил собеседника раскрыть всю «механику» новоявленной преисподней?
В том-то вся и заковыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас Руководят.
……………………………………
В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.
Нам бы это все мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада…
Существует мнение, что первый вариант поэмы был сильнее. Так ли это? Новая редакция и полнее (дорогого стоят одни только вышеприведенные строфы!), и значительно отточеннее.
«Заковыка» в другом… В поэме упомянута «зала ожидания» для не совсем обретших нужную «кондицию», еще «не полностью» покойников.
«Может, все-таки дойдешь в зале этой самой?» — с надеждой обращался к Тёркину былой однополчанин. И хотя сия участь миновала и самого героя, и много претерпевшую поэму, почти десятилетнее пребывание в «зале ожидания» уже этого света не могло не сказаться на судьбе произведения.
Сама возможность его публикации порой казалась автору невероятной:
«Вообще говоря, этот мой цыпленок, проклюнувший скорлупу не вовремя, может быть, уже не будет выведен, хотя я уже столько с ним повозился… С утра вдруг стало опять казаться… что вообще все это дело обреченное» (записи 30 марта и 20 апреля 1962 года).
А несколькими месяцами позже — еще резче и отчаяннее:
«Все же это — как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять — уже от той птицы ничего почти не осталось» (13 декабря).
«Клубятся», по выражению Александра Трифоновича, не оставляют эти «мрачные мысли о „Т. на т. св.“», — многострадальной поэме, которой, если и суждено быть напечатанной, то — «оказаться чем-то меньшим, чем уже сложившееся представление о ней»: «какое-то „устаревание“ этой вещи неизбежно» (14 мая 1963 года).
И хотя по выходе в самой «Правде» земля слухом полнится о «звонких читках» этого номера в поездах и даже учреждениях, новый «Тёркин», по мнению автора, все-таки вступает в свою гласную жизнь «глухо».
«Конечно, подавляющее количество писем благодарственных, сочувственных, оценивающих вещь прямым положительным образом, — размышлял поэт над почтой. — Но вместе с тем и недоумения, и возражения, и протесты, и бог весть что.
Почему „тот свет“, зачем „темнить“, говори прямо про этот? — Может быть, должна была бы явиться вещь более „прямая“ — на всем том, что накипело. Но продолжаю думать, что и такая „условная“, может быть, уже в чем-то запоздавшая вещь имеет смысл открытия возможности говорить о том, о чем не принято было говорить издавна».
Обложка единственного прижизненного издания книги «Тёркин на том свете». 1964 г.
В январе 1964 года в журнале «Дружба народов» было опубликовано письмо пензенского врача Б. Механова «Атака в одиночку», по духу близкое стариковской статье. Оно и послано-то было в кочетовский «Октябрь», откуда его передали в «дружественную» редакцию, а там основательно «переработали» в еще более критическом направлении.
Узнав о предыстории этой публикации, Я. Брыль, Э. Межелайтис и А. Сурков подали заявления о выходе из редакционного совета журнала, однако их легко отговорили. На заседании секретариата правления Союза писателей главный редактор «Дружбы народов» Василий Смирнов утверждал, защищаясь, что Твардовский «ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале». Поддержавший же его Грибачев демагогически (и не очень грамотно) разглагольствовал, что если осудить эту публикацию, то «могут пойти разговоры о том, что у нас имеется какая-то каста неприкасаемых (неприкосновенных, как часто у нас эти слова путают! — А. Т-в), культ возвращается», и не преминул даже заявить, что и в статье Старикова «точка зрения нормальная».
Секретариат Смирнова «пожурил», но предавать дело гласности и дезавуировать явную фальшивку не стал.
Впереди же поэму ждали новые злоключения. С устранением от власти Хрущева ей долгие годы придется как бы «полусуществовать», не раз быть исключенной из очередного сборника произведений автора и не упоминаться в литературе о нем.
Стояла странная, причудливая пора.
«Наш родной Никита Сергеевич» — вознамерился было назвать свой фильм писатель Василий Захарченко, но подчеркнутое слово как-то не удержалось, выпало из названия — по скромности героя? или уже хотели его недавние «верные» потихоньку да полегоньку умерить свое рвение?
Помимо действительных, разделяемых многими, поводов для недовольства размашистыми действиями и самоуправством Хрущева были у его правления и такие черты, которые оказались не по нутру именно партийно-правительственной верхушке и многослойному аппарату сталинской выучки.
Охотно подхватывая филиппики Никиты Сергеевича против «ревизионистов» или «абстракционистов», «верные» устраивали так, что иные его слова, приходившиеся им против шерсти, как в пустоту падали и заглухали. Словно их и не было!