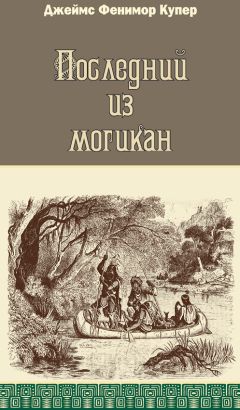– Значит, распространяете пропаганду? И попугая научили?
– Так он же птица, а не советский гражданин…
– В Советском Союзе – все советское. И птица тоже, это я тебе говорю, следователь МГБ Гордеев. Понял? – добил Арбена следак. – У нас так: если больше двух знают, уже срок за распространение.
Арбен рассмеялся.
– Так он же птица, и к тому же не знает. А вот вы знаете и пытаетесь при мне растлить попугая…
– Зря смеешься, Перич, ты мне это брось. Глазами я все вижу, но не говорю, – начал оправдываться следак… – Да что это я. Где взял говорящего попугая? Вместе с «Телефункеном» подарили?
– Да нет, от отца, с фронта…
– Значит, попугайчик тоже с фронта, тоже трофейный, немецкий значит? Значит, немец?
Арбен вдруг подумал, что следак, вероятно, хочет посадить и попугая, внутренне улыбнулся и сказал ему это. И следователь неожиданно рассмеялся. И вдруг попугай четко и громко произнес:
– Состояние Сталина ухудшилось. Зря смеешься, Гордеев!
Следователь побледнел, забегал по комнате и вдруг открыл форточку, затем достал попугая из клетки и выпустил в окно на мороз…
– Улетел, падла… Никому теперь не скажет, язык свой фрицовский отморозит… А ты…
В общем, дали Арбену Перичу восемь лет за то, что слушал «Голос Америки». Без попугая посадили. Попугай действительно замерз, утром его нашли недалеко от следственного изолятора.
Арбен отсидел только два года, потому что состояние Сталина ухудшилось еще больше. Вернулся он к своим голубям, а они почти все разлетелись. Но больше всего Арбен грустил по попугаю. Где-то через полгода, это уже было примерно в начале пятьдесят пятого, под дверью он нашел повестку в КГБ.
«Опять начинается? Что теперь? Вроде – все чисто. Наверное, не досидел. Решили, что надо весь срок до конца дотянуть…»
Несколько дней мучался и ночей не спал до десяти утра того дня, что был указан в повестке. Ровно в десять он постучал в кабинет к старшему следователю Гордееву.
Арбен первый спросил:
– Что опять?
– Да нет, я вызвал, чтобы сообщить: вы реабилитированы…
– Ну и шуточки у вас, – сказал Арбен и двинулся на выход, но вернулся назад, приоткрыл дверь.
– А попугая тоже?
– Да, но только посмертно, – серьезно ответил Гордеев и уткнулся в бумаги.
Из безымянной джонки: дом крымчака, город Ак-Мечеть, осень 44го…
Губы полны поцелуев
Не надо
Пояс полон монет золотых
Не хочу
Звезды морские горят в волосах
Угасая
Душу отдай
Ветер дул вчера весь день
Сад опустел
Яблоки катились по дороге
Всю ночь
Я слышал топот табуна
Тебя отдали за богатого
Я уезжаю навсегда
Ты будешь счастлива
Я сохраню твою ресничку упавшую в ту ночь
Мне на ладонь когда мы уходили в степь
Закатную не обернувшись
Батрачить буду дом построю
Чтоб ты заплакала когда узнаешь что другую
Отдадут за нелюбимого
Моя судьба
Летящий лист из сада
В поле
В пустое поле
Без тебя
Деньги в долг – пусть проветрятся
Не ходи из дома если птица кричит
Если плачет человек выходи
В гостях много пьешь дома будешь еще больше
Лошадь не обгоняет лошадь без хлыста хозяина
Больной в доме хозяин
Вода течет даже когда ее нет нигде
Мертвый хочет любую работу
Живой никакой
Женщина приходит любимой уходит к другому
Вчера разлилась Карасу унесло два небольших мостка для полоскания белья вода подступила совсем близко к домам словно ком к горлу унесло вороного коня он бил копытами по воде но потом заржал в последний раз сверкнув черным мокрым крупом на солнце скрылся под водой цыгане найдут в океане плакали мальчишки ходили возле воды и вылавливали не тонущих целлулоидных кукол но уже без рук они пристают к земле и уходят домой прыгая с камешка на камешек вода сойдет но до следующей весны оставит полоску у самых окон домов обращенных к реке Карасу оставляющей черные следы на известке домов
Море горит небо краснеет
Умерла моя дорогая вспыхнула горсткой листьев
Кто меня теперь будет купать
Как ребенка дети мы дети все ее дети
Как в саду ее птицы любили
Целовали у края слезы
Ты ушла ты куда мы там не были
И не сможем помочь
Ты вернешься я знаю
Ранним утром когда сосульки стекут
На кусты кипариса и на будку собаки
На листы винограда на остывший чоче
Ты жена мне отныне больше чем была вчера
Твои кости вчера говорила что ныли
От подагры а теперь не болят мне сказали в аптеке
Не скажу я прощай у нас нет этого слова
И понятия нет я твоя дорогая жена
Ты мой муж посредине меж нами
Роза лежала без шипов
Ты взяла ее первой
Родная
Топчу у ворот уголь-орешек
Топчу у ворот уголь-орешек
Скоро зима и последние груши
Вот-вот упадут на дорожку в саду
Звезды потом упадут
Будет скользко но некому падать
Дети уехали в город и не вернулись
Почему
Что я им мать не отец или отец не мать
Что же так рано
Птица ударила клювом по льду
Под водостоком
Утром уехали вечером нет
Надо идти доставать прошлогоднюю вату
Чтобы меж рам уложить
Без нее в доме не будет тепла
Даже сосед не согреет наливкой
Южная стужа душа костенеет
Костенеют деревья и косточки
В сливах и грушах
Сад если ляжет то всеми стволами
Листья сорвутся то всеми стадами
Дети уйдут то со всеми вещами
Мухи и те улетают с липучками
Я никуда не уйду
Пока все не вернутся
Предчувствие хуже вражеской армии
Входит в сознание
Опустошает
Что-то грядет если меня не снимает
С места ни ветер ни страх холодов
Все же уходят дома оставляют
Даже отца у ворот позабыли
Подняли лишь воротник из собаки
Так что не слышно кашля машин
Пусто вокруг разбегается небо
Дети уехали в город и не вернулись
Скоро наверно…
Хафуз увидел, как к воротам римской дачи, стоявшей на берегу моря, подъехала карета, запряженная медленным, известным на всю Балаклаву конем по кличке Смельчак. Римская дача называлась римской потому, что в ней обосновались выходцы из Италии крымчаки Пьястро, а конь был известен как единственный на всю балаклавскую бухту фронтовик – он достался извозчику чуть ли не после англо-французской войны с Россией. Конь был стар, глух и поэтому сильно не разгонялся, однако слушался вожжей хорошо. На нем обычно привозили знатных особ с инкерманской станции – ну не брать же бричку без рессор, не встряхивать же свое тело на каждом камне! Карета была лакированной, однако скособоченной и вся, если присмотреться, в трещинках. Из кареты вышла легкая изящная девушка в ярко-белых, накрахмаленных летних одеждах – юбка едва не касалась земли, и девушка придерживала ее одной рукой, а другой крепко держала шляпку, которая касалась неба. Конечно девушка была длинненькой. Но не настолько. Просто дул бриз и мог снести ее шляпку в море. За ней тяжело, прямо через ступеньку шагнул хозяин римской дачи Пьястро, толстый, но поворотливый мужчина лет пятидесяти на вид, и они вдвоем двинулись к калитке дачи. Хафуз стоял недалеко и наблюдал сию картину, отнюдь не претендуя на внимание. Вдруг шляпка вырвалась из-под руки девушки, и ее понесло, как и предполагалось, к морю…