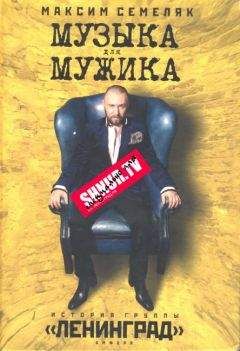В свете бесспорных событий местные рокеры с именами неохотно, но признали Шнура. Первым засвидетельствовал почтение хитрый Сукачев, за ним с вынужденно понимающими улыбками потянулись все остальные — от Скляра до Шахрина. БГ ворчал — ему мерещилось, что Шнур жлоб. Гребенщиковские нападки были, впрочем, вполне осмысленны и скорее напоминали известные претензии Ходасевича к Маяковскому: «Поэт может изображать пошлость, грубость, глупость, но не может становиться их глашатаем». У самого же Шнурова к Гребенщикову претензий не было. Как выразился он в интервью прибалтийскому телевидению, «Мы продолжаем традиции группы „Аквариум“ — так же плохо играем».
Шнуров ладил разве что с Летовым — по обоюдному согласию. В них вообще было что-то общее — на уровне четкого и своевременного прорыва. Если Летов в свое время открыл некие горизонты, то Шнуров подвел под ними жирную и скачущую, как хорошая кардиограмма, черту. Егор кричал «хой», а Шнур — «хуй».
По-настоящему зло на Шнура отреагировал только один человек, — естественно, это был Шевчук. Он придумал Шнурову кличку Веревкин, в эфире НТВ назвал его «вонючкой, обматерившей страну», сочинял какие-то частушки — при том что со стороны Шнурова никаких специальных провокаций не исходило. Была, конечно, малоизвестная песня со словами «Как пел Юрий, бля, Шевчук, я рожден в СССР — здравствуй, моя родина, наркодиспансер!», однако она так и осталась незаписанной, живьем исполнялась считаные разы, вряд ли Шевчук мог ее слышать. Еще «Ленинград» в свое время отказался выступать на шевчуковском фестивале «Наполним небо добротой». Но дело, разумеется, было не в песне и не в фестивале. Шевчук явно ревновал, причем сильно. Хриплый голос, питерская тема, борода, эстетика преувеличенной свойскости, околошансонное настроение, сценическое шутовство (платье Шнурова самого конца прошлого века не так уж далеко ушло от пижамных штанов Шевчука образца 87 года), безудержное пьянство с рукопашным исходом — общего оказалось неожиданно много. Но в Шнурове было куда больше беспечной охальной радости, тогда как музыка Шевчука при всех ее психотерапевтических наветах («не стреляй!», «наполним небо!» etc.) всегда несла в себе некую глобальную черную спиртную пневму. Шнур баловался есенинщиной, а Шевчук — прямой пугачевщиной. И если Шевчук пас народы, то Шнуров просто слал их на все четыре стороны.
Вообще, Шнур плохо вписывался в здешний рок-н-ролльный контекст. Куда естественнее он смотрелся в пьяном импровизированном дуэте с «Иванушками-интернейшнл», «Дискотекой Авария» или какой-нибудь девицей из «Блестящих». Поэтому нет ничего удивительного, что первый основательный конкурент «Ленинграда» явился именно из этого окружения. Им стал украинский трансвестит по прозвищу Верка Сердючка (была даже корпоративка в «Шоколаде», где Шнур и Верка выступали в порядке общей очереди). Нелепое создание несомненно увело у «Ленинграда» часть огромной аудитории — при некоторой схожести рецептов буфетный фольклор Сердючки оказался чуть более сладким бальзамом на народную душу. «Ленинград» с его химерической харизмой и истовой апологией житейского шваха был излишне броским и болезненным явлением для вагона-ресторана, преодолевающего дальние дистанции. По большому счету Шнуров вообще не казался русским. Он был скорее очень здешним.
Когда весной 2002 года Шнуров публично пообещал закрыть «Ленинград», то на расхожие вопросы о планах он, по обыкновению, отвечал словом «киномузыка». Эти заявления звучали как горячечная бравада боксера, которого по возрасту и количеству травм головы списывают в тренеры, однако же Сергей Шнуров не соврал. Год спустя ему подвернулся лучший русский фильм той поры, и он сочинил к нему снайперски точную тему, заработав целое небольшое состояние на рингтонах. Фильм назывался «Бумер», и Шнур раззвонил его заглавную тему по всей стране — чуть не у каждого десятого телефон верещал по шнуровским нотам (которых он, к слову, не знает). Однажды я видел, как нищий ребенок играл ее на гармошке, ходя по вагонам московского метрополитена.
Эта тема отлично вписалась в концертную практику группы, — в сущности, единственное, чего не хватало «Ленинграду», это рьяной драматической увертюры. Со сменой состава группа потеряла во внутренней дикости, зато прибавила во внешней мощи. Их стало еще больше на сцене. Стройная секция духовиков, никто из которых уже не падал со сцены, напоминала македонскую фалангу — их медь блестела почти как оружие победы. В каждой мелкой глупости чудилась торжественная содержательность. В конце концов, Шнур выстраивал эту фалангу не абы как — однажды он закатил Севычу основательный скандал за то, что тот во время лондонского концерта ушел со своего привычного места ошую и принялся играть на перкуссии рядом с Микшером, стоявшим в правом дальнем углу сцены.
Весной 2004 года Шнуров привез в Москву сидиар с дурацкой надписью «Бабаробот». Это был дебют «Ленинграда» в жанре рок-оперы. «Бабаробот» — мистерия-бух, в которой сошлись идиотский радиоспектакль, идиотская рок-опера и идиотский же концептуальный альбом типа «Ленинианы» Егора Летова. История состояла из одного-единственного получасового трека, не считая караоке-комментариев. Не поддающийся публицистическому описанию и записанный за полторы недели альбом «Бабаробот», с одной стороны, возрождал забытые драмкружковые традиции советского рок-андеграунда (группы «Мухоморы», «Коммунизм», «ДК», «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе», «Проделки Z», в конце концов); с другой, напомнил о великом множестве старообразных виниловых сказок, где выли, ухали и блеяли народнейшие из артистов; с третьей, просто-напросто доводил до ума (точнее, до его отсутствия) трепливые фиксации репортажных пластинок «Ленинград уделывает Америку» (один и два). С рождением «Бабаробота» вернулось старинное ощущение от «Ленинграда» (слегка померкшее после крепкой коммерческой пластинки «Для миллионов»); ощущение, знакомое по «Мату без электричества», — можно то, чего не может быть. Вернулся тот квант дикости, которым всегда славился Шнуров. Он забавно вставил уже знаменитый звонок из «Бумера» в песню «Геленджик» — спустя несколько лет Тарантино схожим образом процитирует мобильную тему из «Убить Билла» в «Доказательстве смерти».
В довершение всего на пластинке запел Андромедыч — он исполнил арию «Я самый несчастный, я робот и баба, мне честь сохранить бы мужскую хотя бы». Андромедыч, серый кардинал «Ленинграда», был ближайшим советником Шнурова во всем, что касается собственно музыки и процесса ее записи. Если Пузо и Севыч обеспечивали концертный шухер, то Андромедыч с его музыкальным образованием и недурными способностями аранжировщика мудрил непосредственно на студии.