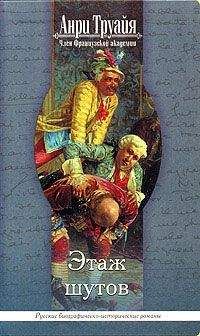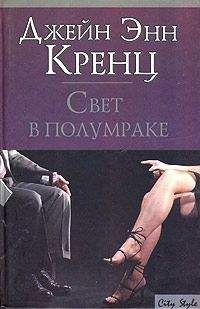— Покаместь в переходном, так сказать, в неглиже: нет ни одной штуки вполне отделанной, чтобы можно было показать вам.
— Ну, со своим братом писателем вам нечего чиниться. Меня интересует именно ваше творчество. Покажите-ка, покажите, что у вас наготовлено.
Пушкин, сам Пушкин интересовался его творчеством!
Гоголь выгрузил на стол весь ворох своих писаний и торопливо начал перелистывать их, не зная, на чем остановиться. Но Пушкин решил вопрос, наложив руку на самую объемистую тетрадь:
— Ведь я вам, душенька, все равно ничего не прощу. Что это такое? «Ночь перед Рождеством»? Ну, вот и извольте читать.
Гоголь послушно сел и стал читать. Бесподобные сцены Солохи с чертом, Вакулы с Оксаной, и т. д., и т. д., над которыми с тех пор более полувека хохочет вся грамотная Россия, впервые развернулись тогда перед Пушкиным, который не раз во время чтения награждал автора самым искренним смехом.
— Это, пожалуй, еще лучше всех прежних рассказов пасечника, — заметил он, когда Гоголь закрыл тетрадь. — Тут не столько даже остроумия, сколько здорового юмора: острота смешит, юмор веселит.
— А вы не сделаете мне никаких замечаний? — спросил Гоголь, которому такая похвала как хмель ударила в голову.
— Сегодня — нет, — уклонился Пушкин, — сегодня я гость и смакую только. Но одним глазком я охотно заглянул бы еще в ваш чуланчик с сырой провизией. У вас ведь тоже, конечно, имеются разные летучие заметки?
— Как не быть…
— Ну, так выкладывайте-ка свое сырье, из которого стряпаются потом такие вкусные вещи, как эта «Ночь перед Рождеством».
Делать нечего — пришлось выкладывать свое «сырье». Как знаток-антикварий, попавший к другому собирателю древностей, с одинаковым интересом разглядывает и большую мраморную статую и миниатюрную, но редкую камею, так же точно Пушкин с неослабевающим любопытством перебирал выложенную перед ним рукописную груду, не пропуская ни одного клочка бумаги с случайной заметкой, набросанной карандашом. Всего более же заняла его записная тетрадка Гоголя за время путешествия его из Полтавы в Петербург: тут были не только мимолетные наблюдения туриста — описания местностей, одежд и нравов, но и целые разговоры с встречными людьми.
— Да вы просто Крез! — сказал Пушкин. — И способ, которым вы собираете ваши богатства, надо сознаться, гораздо систематичнее моего.
— А ваш способ какой? — спросил Гоголь.
— Как накопится у меня в голове запас наблюдений, я нарежу себе пачку билетиков, сделаю на каждом подходящий ярлык и положу всю пачку в вазу на рабочем столе. А выдастся раз свободная минута, — достану из вазы наугад, как в лотерее, тот или другой билетик, и какой бы мне тут ни попался заголовок, например, «Державин» или «Русская изба», в памяти моей разом восстанет все то, что мне хотелось сказать о Державине или русской избе…
— И вы тотчас записываете все на том же билетике?
— Если найдется на нем место; если же нет, то продолжаю на другой бумажке. Многое, конечно, так и останется без употребления; но наследникам моим будет хоть чем пополнить посмертное издание моих сочинений! — с грустною шутливостью добавил Пушкин. — Сами же вы, Николай Васильевич, оставайтесь при вашей системе. Не все в ваших самородках золото, есть и шлаки; но я помогу вам отделить их, по пословице: кого люблю, того и бью.
Так все более сближались наши два великие писателя, хоть звезда одного из них стояла уже в зените, а звезда другого едва восходила над горизонтом. Встречались они не только друг у друга, но и у Жуковского, Плетнева и Россет. На одном из понедельников у последней Гоголь удостоился читать свою «Майскую ночь» великому князю Михаилу Павловичу; в дугой понедельник — самому государю. Государь обошелся с молодым писателем очень милостиво, поговорил с ним о Малороссии, о гетманах Хмельницком и Скоропадском, а когда узнал, что Гоголь приходится внучатым племянником покойному министру юстиции Трощинскому, то отозвался с большою похвалою об этом выдающемся сотруднике Екатерины II и Александра I. Тут речь зашла и о верности старых русских слуг.
— Никто так звучно не воспел их, как наш Искра, — сказала Россет, давшая Пушкину, между прочим, и это прозвище. — Его няня Арина Родионовна будет вечно жить в его чудных стихах.
— Прочитай-ка нам что-нибудь про нее, Пушкин, — предложил государь.
Пушкин, немножко подумав, стал читать свое несравненное стихотворение: «Наперсница волшебной старины», где няня и бабушка поэта Марья Алексеевна Ганнибал (еще ранее няни рассказывавшая ему семейные предания) сливаются в один общий образ музы-старушки, а та внезапно превращается в молодую красавицу-музу.
— Какие восхитительные, мелодичные стихи! — сказал государь.
— И как плохо прочтены! — подхватила Россет. — Он вечно мчится галопом!
— Однако вы обращаетесь с поэтом без церемонии.
— Это мой самый строгий цензор, гораздо строже вашего величества, — сказал Пушкин. — Он уважает только поэзию, а не поэтов, которых третирует свысока. Но ухо у нее верное и музыкальное.
— В таком случае, ты на будущее время приноси свои новые стихи ей, а она уже будет передавать их мне на последнюю цензуру: она будет твоим фельдъегерем ко мне.
По уходе государя разговор сделался опять общим. Было тут немало людей умных и остроумных, каждый считал долгом подсыпать свою щепотку аттической соли; это была как бы скачка остроумцев, но Пушкин вел скачку и своими неожиданными выводами опрокидывал всякие соображения.
— Ну, Пушкин, — заметил Жуковский, — ты так умен, что с тобой говорить невозможно. Чувствуешь, что ты неправ, и, однако, с тобой соглашаешься.
Ответом Пушкина был тот звонкий, чистосердечный смех, которому так завидовал Брюллов, говоривший: «Какой счастливец Пушкин! Смеется, словно кишки видны».
Один только новичок и дичок Гоголь не принимал участия в оживленной беседе «аристократов ума и литературы». Но, сидя в стороне, он не сводил глаз с Пушкина и тихомолком заносил слова его в свою карманную записную книжку.
— Записывайте, записывайте, — сказала ему, подходя, молодая хозяйка. — Сверчок ныне особенно в ударе; это какой-то фейерверк. Знаете ли вы, что говорил он мне про ваши заметки, которые вы показывали ему на дому? — продолжала она, таинственно понижая голос. — «Я просто поражен наблюдательностью нашего молчальника-хохла! — говорил он. — Хохол все видит, все слышит, схватывает самые неуловимые оттенки, особливо же все смешное. Но он не только смеется: он бывает и грустен; он рассмешит, но заставит и плакать. И помяните мое слово: раньше десяти лет он будет русским Стерном!»