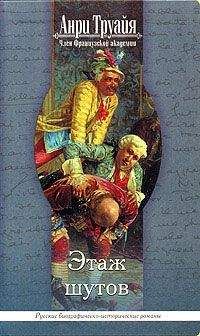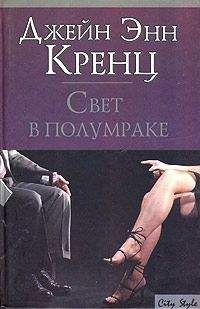— Да он сам сглазил: «Если холера может приключиться от кваса и ботвиньи, — говорил он нам, прощаясь, — то я наверное помру, потому что не могу жить летом без ботвиньи». — «Нет-нет, пожалуйста, не кушайте ее!» — закричали мы. А вот оно так и вышло!
Еще более института, впрочем, занимал теперь Гоголя набор его книги, которая печаталась в казенной типографии Министерства народного просвещения. Когда он в самый день своего приезда в Петербург заглянул в наборную и спросил, почему в течение всего лета ему не присылалось в Павловск ни одной корректуры, все наборщики, стоявшие рядом за своими станками, вместо ответа запрыскали в руку. Он отправился в контору к фактору. Тот стал было оправдываться карантином и множеством работы, но в заключение признался, что во время холеры с рабочим людом просто сладу не было: с горя целые дни гуляют: все одно, мол, помирать-то.
— Ну, моя книжка перед смертью, во всяком случае, их несколько развеселила, — сказал Гоголь. — Когда я сунулся в наборную, они, уже глядя на меня, зафыркали.
— Да-с, ваши штучки оченно даже, можно сказать, до чрезвычайности забавны, — согласился фактор, — и наборщикам нашим принесли большую пользу.
«Из этого я заключил, что я — писатель совершенно во вкусе черни», — писал затем Гоголь Пушкину.
Благодаря постоянным его напоминаниям в типографии, «Вечера на хуторе» увидели свет Божий уже в первой половине сентября, и счастливый автор поспешил поделиться своею радостью с дорогими его сердцу людьми в нижеследующем, вполне «гоголевском» письме к Жуковскому, который, как и Пушкин и Россет, жил еще в Царском:
«Насилу мог я управиться с своею книгою и теперь только получил экземпляры для отправления вам. Один собственно для вас, другой для Пушкина, третий с сентиментальною надписью для Россет, а остальные — тем, кому вы по усмотрению своему определите. Сколько хлопот наделала мне эта книга! Три дня я толкался из типографии в цензурный комитет, и наконец теперь только перевел дух. Боже мой! Сколько экземпляров я бы отдал за то, чтобы увидеть вас хоть на минуту. Если бы, — часто думаю себе, — появился в окрестностях Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойник, и украл этот несносный кусок земли, эти 24 версты от Петербурга до Царского Села, и с ними бы дал тягу на край света, или какой-нибудь проголодавшийся медведь упрятал их, вместо завтрака, в свой медвежий желудок. О, с каким бы я тогда восторгом стряхнул власами головы моей прах сапогов ваших, возлег у ног вашего превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших, приуготовленный самими богами из тьмо-численного количества ведьм, чертей и всего любезного нашему сердцу. Но не такова досадная действительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты в дорогу от Петербурга до Камчатки. Знаете ли, что я узнал на днях только? Что э… но вы не поверите мне, назовете меня суевером; что всему этому виною никто другой, как враг честного креста церквей Господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил сбоку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем. Но Пушкин, как ангел святой, не побоялся сего рогатого чиновника, как дух пронесся мимо его и во мгновение ока очутился в Петербурге, на Вознесенском проспекте, и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару, под высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8 августа, и к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:
…Окна мелом
Забелены, хозяйки нет;
А где — Бог весть! пропал и след![47]
Первая подробная и довольно благоприятная рецензия о „Вечерах“ появилась тотчас по выходе книги в булгаринской „Северной Пчеле“ (20 и 30 сентября). Вслед за тем (3 октября) в „Литературных прибавлениях к „Русскому Инвалиду“ издатель их Воейков напечатал извлечение из письма к нему Пушкина, который, рассказывая о том, как фыркали наборщики при виде автора „Вечеров“, говорил, что „Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков“, и поздравлял публику „с истинно веселою книгою“, а автору „сердечно желал дальнейших успехов“.
Отзыв нашего первого поэта был немедленно перепечатан во французском переводе в еженедельнике „Le miroir“.
А как же отнеслась „публика“ к автору-дебютанту? В три месяца с небольшим, к началу следующего (1832) года, первое издание книги его уже разошлось, и надо было подумать о новом наборе.
Общий курс школы жизни был Гоголем пройден, экзамен сдан успешно. Чего же более? Но и в школе жизни для „мастеров дела“ есть еще свой специальный класс, и сам Пушкин взялся быть его наставником в этом классе.
Глава двадцать первая
В СПЕЦИАЛЬНОМ КЛАССЕ ШКОЛЫ ЖИЗНИ
В осеннюю пору деревня представляла для Пушкина, как известно, особенную прелесть. Хотя дача и не могла заменить ему деревни, но в Царском Селе дышалось все же гораздо легче, чем в Петербурге, и он перебрался сюда на зимнее житье только с заморозками в октябре. Тут один из первых визитов его был к Гоголю, который между тем устроился на новой квартире (в четвертом же этаже на Офицерской, в доме Брунста).
— А у вас здесь, ей-Богу, премило, — говорил Пушкин, озираясь в просторном и, действительно, очень уютном жилье. — Вся эта обстановка, конечно, хозяйская?
— Нет, моя собственная, — отвечал Гоголь, самодовольно потирая руки. — Кое-что у меня уже имелось с первого приезда в Питер; остальное: вот письменный стол с креслом, бюро, да вон старинные гравюры на стене прикупил теперь на толкучке…
— На толкучке!
— А что вы думаете: там такие сокровища, каких в ином большом магазине не найдете.
— Но мебель как будто совсем новая, сейчас только отполирована…
Тонкая усмешка пробежала по губам Гоголя.
— Значит, недаром столько политуры и сил потратил!
— То есть как вас понимать? Не собственноручно же вы полировали?
— Вот этими самыми руками; и дешево, знаете, и сердито.
— Не знал я за вами таких талантов! Но хорошенькие занавески эти не сами же вы смастерили?
— Выкроил сам и показывал, как шить.
— Браво! Как станем с Натальей Николаевной обзаводиться своим домком, так позволим себе вас также обеспокоить. Зашел я, однако, сегодня к вам не за этим.
Но умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.
В каком положении, скажите, ваш второй сборник «Вечеров диканьских»?
— Покаместь в переходном, так сказать, в неглиже: нет ни одной штуки вполне отделанной, чтобы можно было показать вам.