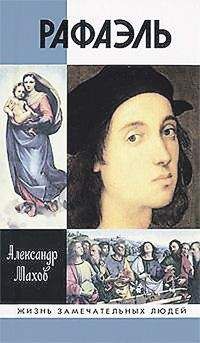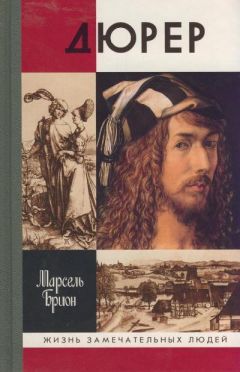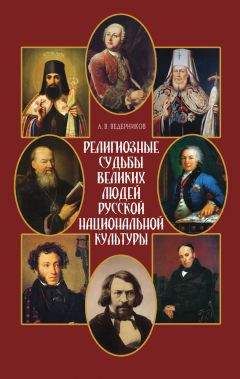Приходится только сожалеть о том, что площадь перед Санта-Кроче, этот приют добра и человеколюбия, была когда-то отдана на откуп оголтелым сторонникам доминиканского монаха Савонаролы для проведения дикого шабаша и «костров тщеславия», где в безумном ослеплении уничтожались произведения искусства и книги как рассадник ереси и богоотступничества.
К счастью, флорентийцы вскоре протрезвели и постарались забыть фанатика-доминиканца, пытавшегося превратить Флоренцию из колыбели Возрождения в хмурый средневековый монастырь. Дабы совсем забыть те безумные годы, перед собором Санта-Кроче в 1830 году был сооружён памятник Данте. В те годы Италия представляла собой конгломерат враждующих мелких княжеств. К создателям и строителям памятника обратился земляк Рафаэля поэт Леопарди. В заключительных строках его канцоны выражены мысли и чаяния многих поколений итальянцев, мечтавших на протяжении веков, со времён Данте и Петрарки, о едином национальном государстве:
Ужель мы будущего лишены
И нет конца позора?
Пока я жив, к тебе обращены
Мои стихи, больное поколенье, —
В них предков глас укора.
Земля, что топчешь ты, хранит руины
Древнейших капищ. Так взгляни хоть раз
На изваянья, свитки и картины!
Но если дух угас,
Не для тебя страна с такой судьбою.
Уйди и поищи приют скромней.
Ей лучше быть вдовою,
Чем малодушных взращивать мужей.34
В наши дни на самой площади в погожие летние вечера проводятся Дантовские чтения, собирающие огромную аудиторию. При зажжённых свечах в руках зрителей звучат у подножия памятника Данте вдохновенные строки великого флорентийца в исполнении известных артистов.
Много времени Рафаэль проводил перед росписями Мазаччо в часовне Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине на другом берегу Арно, жадно впитывая в себя, переосмысливая увиденное и делая пометки в рабочей тетради. В те незабываемые часы он, вероятно, испытывал те же чувства, которые переполняли юного Микеланджело, когда он впервые увидел гениальные фрески, перевернувшие все его представления о живописи.
Мазаччо вошёл в искусство в возрасте шестнадцати-семнадцати лет, спустя столетие после Джотто. Но между этими двумя корифеями пролегает огромная дистанция. Юнец Мазаччо совершил подлинный переворот в искусстве. Глубоко прав Вазари, утверждая, что Мазаччо первому в итальянской живописи удалось осуществить прорыв к «подражанию вещам в том виде, как они есть», и что на его фресках люди наконец прочно встали на ноги. В отличие от предшественников он сумел окончательно решить проблему пространства, в котором изображённые люди, дома и деревья обретают геометрически оправданное место. Вместо размытых теней, как у Джотто, на фресках Мазаччо основными формообразующими элементами выступают свет и тень, которые придают объёмам их материальную осязаемость.
В сценах изгнания Адама и Евы из рая или крещения апостолом Петром язычников Рафаэль увидел яркий пример нового понимания художественной сущности нагого тела человека. Для Мазаччо оно не являлось лишь объектом изучения, в котором каждый мускул и сустав выписываются с педантичной точностью, словно их изображение служит пособием для изучения анатомии, как, например, в появившейся позже гравюре Антонио Поллайоло «Битва обнажённых». Рафаэль был наслышан о ней и однажды, чтобы её увидеть, специально посетил мастерскую родственника Поллайоло архитектора Кронаки.
В Адаме и Еве Мазаччо убедительно воспроизводит всю гамму переживаний своих героев. В сцене крещения одна из фигур нагого язычника точно передаёт физическое ощущение холода, а другая говорит о внутреннем его духовном перерождении в момент великого акта крещения. В наготе человеческого тела можно увидеть не только его пластическую сущность, но и нечто большее, что заставило Рафаэля глубоко задуматься, стоя перед творением Мазаччо.
В этой же церкви он увидел добротные фрески Филиппо Липпи, который видел, как Мазаччо работал в часовне Бранкаччи. Рафаэля заинтересовала не только живопись, но и личность самого Липпи, влюбившегося в одну монахиню и выкравшего её из монастыря. Вскоре на свет появился их сын Филиппино Липпи, будущий талантливый живописец. Этот неслыханный дерзкий поступок возмутил общество. Однако всё обошлось благополучно для любящей пары благодаря авторитетному вмешательству главы могущественного рода Козимо Медичи и папы Пия II Пикколомини, о деяниях которых Рафаэль был наслышан ещё в Сиене.
С историей рода бывших правителей Флоренции он познакомился в часовне дворца Медичи, расписанной фресками в 1459 году флорентийцем Беноццо Гоццоли на тему шествия волхвов к Святому семейству. Это великолепие в ярких красках с обилием позолоты прославляет все три поколения Медичи в апогее их безраздельной власти. Теперь дворец бывших хозяев города пуст и сюда заходят из любопытства только те, в ком сильна ностальгия по блистательным временам правления изгнанных тиранов.
Разглядывая фрески и делая зарисовки в тетради, Рафаэль повстречал там господина средних лет с выразительным взглядом на некрасивом скуластом лице, смахивающем на хорька, назвавшегося литератором Макиавелли. Это имя ему приходилось слышать из уст старины Матуранцио.
— Это было великое время, — сказал новый знакомый. — Видите, молодой человек, даже Медичи, слывшие просвещёнными политиками, не удержались от соблазна придать своей власти божественное начало и стали свысока смотреть на своих подданных, за что и поплатились, будучи изгнаны народом. Вот в чём корень наших бед.
Новый знакомый пояснил Рафаэлю, кто изображён на фреске, и рассказал историю каждого члена знатного семейства, добившегося безраздельного господства над Флоренцией. После той памятной встречи в пустом дворце Медичи, живо заинтересовавшей Рафаэля, от друзей ему стало известно, что умный и осторожный политик, член Совета десяти республики Никколо Макиавелли был выходцем из небогатой дворянской семьи. За свои симпатии и близость к Цезарю Борджиа он лишился высокой должности канцлера и занялся литературным трудом, который принёс ему большую известность. Рафаэль долго не мог забыть сверкающие глаза Макиавелли, когда тот рассказывал о Медичи, и ему даже захотелось написать его портрет. Макиавелли вскоре был вновь приближен к правящим кругам, получив должность военного консультанта, но встретиться с ним больше не представилась возможность.
Как-то перед Всехсвятской церковью, куда Рафаэль собирался было войти, его окликнул один знакомый, разговаривавший с неким стариком с клюкой и котомкой на плече. Когда он подошёл, знакомый представил его собеседнику: