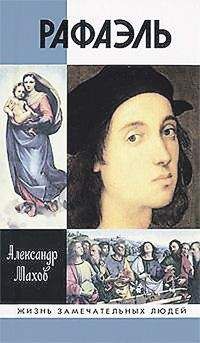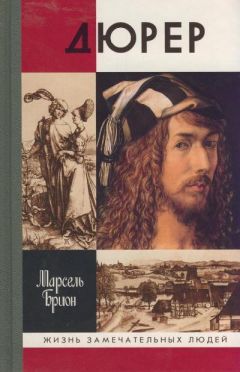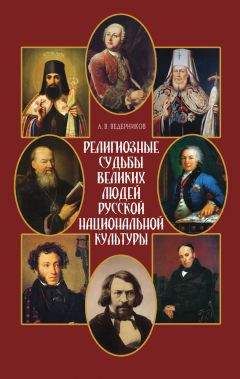— Каждый волен выражать собственные амбиции, — закончил он гневную речь, — но только сколько угодно в своих работах, а не в чужих.
Поднялся гул недовольства, но не тут-то было. В запальчивости Микеланджело никому не давал рта открыть, подавляя всех тоном, не терпящим возражения. Его поддержал один лишь Франческо Граначчи. Среди оппонентов были видные архитекторы Антонио Сангалло, Симоне Поллайоло по прозвищу Кронака, скульптор Джован Франческо Рустичи и художники Козимо Росселли, Лоренцо ди Креди, Пьеро ди Козимо и Андреа дель Сарто, чьи работы Рафаэль видел и ценил.
Микеланджело удалось наконец убедить их всех в своей правоте и склонить на сторону отстаиваемой им позиции. Но неуступчивый хозяин мастерской Баччо д’Аньоло упрямо стоял на своём. Он с жаром защищал выдвинутый им проект и в оправдание ссылался на то, что оригинальные чертежи с рисунками были утеряны попечительским советом собора или просто уничтожены в приснопамятные смутные времена, когда с церковных амвонов Савонарола призывал к покаянию и к отказу от всего мирского.
— Вы что, забыли те времена? — упорствовал Баччо. — Очухайтесь, коллеги, и вспомните, наконец, как предавалось огню всё, что могло вызвать подозрение в ереси, а теперь приходится локти кусать. Ведь погибла уйма прекрасных вещей.
Микеланджело произвёл двойственное впечатление на Рафаэля. Он вспомнил, как впервые чуть не столкнулся с ним в приёмной Содерини. Его поразили убеждённость мастера в отстаивании собственной позиции и уважение к памяти покойного Брунеллески, но вызвали неприязнь его излишняя горячность и, главное, нетерпимость к мнению других.
В этом он ещё больше утвердился, когда в Испанской лоджии стал очевидцем крупной ссоры по поводу живописи маслом между Перуджино и Микеланджело, который отрицал это нововведение как забаву для дураков, занесённую в Италию cкучными флегматичными фламандцами.
— Кому недостаёт фантазии, — заявил он, — тот и хватается за это новшество как за спасительное средство, рисуя затейливые узоры и цветочки, поскольку на что-либо серьёзное и дельное давно уже неспособен.
Перуджино принял эти слова на свой счёт и обиделся. Оба мастера не скупились на взаимные оскорбления и наговорили друг другу кучу нелицеприятного. Рассерженный Перуджино подал в суд за оскорбление прилюдно молодым соперником, назвавшим его искусство goffo, то есть аляповатым. Судебное разбирательство закончилось не в пользу старого мастера, которому не впервой было иметь дело с флорентийской Фемидой. Как это всё не похоже на то, что Рафаэль недавно здесь же увидел и услышал, впервые познакомившись с Леонардо!
Его немало позабавила последняя выходка Микеланджело, когда во время жаркого спора в мастерской того же Баччо д’Аньоло он ничтоже сумняшеся заявил, что его древний род графов Каносса превосходит знатностью бывших аптекарей изгнанных Медичи. Рафаэля покоробили тогда слова великого мастера, который, к сожалению, часто бывал одержим собственным величием, доходившим, как в данном случае, до смешного, что не делало ему чести.
Он продолжал упорно изучать флорентийское искусство и посещать мастерские, где между художниками постоянно велись споры, к которым он молча прислушивался, набираясь уму-разуму. Каждое утро, как прилежный школяр, идущий обучаться грамоте, он с кожаной папкой в руках посещал поочерёдно храмы, у всех на виду делал зарисовки в альбоме, руководствуясь собственным чутьём, и отбирал для копирования всё то, что могло оказаться в дальнейшем полезным, проявляя при этом незаурядный вкус.
Среди флорентийских собратьев по искусству была пущена в ход шутка о «пчёлке из Урбино, собирающей нектар с флорентийских цветов». Перуджино больше его не интересовал, но повстречав старого мастера на улице или в компании коллег, он неизменно подходил к нему и в знак почтения прикладывался к его руке, что не оставалось незамеченным другими художниками, особенно пожилыми, оценившими поведение молодого урбинца.
В своих хождениях по городу он как-то открыл для себя старинную церковку XII века Сан-Миньято аль Монте в тосканско-романском стиле на высоком холме за Арно, откуда Флоренция видна как на ладони. Её фасад выложен мраморными плитами белого и зелёного цветов. Столь же прост интерьер в мраморном обрамлении. Старые резчики по камню были так искусны, что вырезанные ими пожелтевшие от времени балюстрады и барельефы кажутся выполненными из слоновой кости. Здесь, вдали от шумного города Рафаэль любил проводить время, чтобы осмыслить в тиши увиденное и услышанное. Это был удивительный уголок, где камень пощадил растительность, и она буйно разрослась, обласканная солнцем. Издали приметна тихая кипарисовая роща, а сама церковка Сан-Миньято выглядит как мраморный цветок и эмблема Флоренции, олицетворяющая её строгую красоту и чистоту духа.
Однажды он забрёл в монастырь Сан-Марко, бывший оплот Савонаролы. Первое, что привлекло ею внимание, когда он оказался во внутреннем дворике обители, и заставило остановиться — не архитектура и не живопись, а величественная многовековая лиственница, образовавшая дивный шатёр над зелёным газоном, защищающим от палящих лучей. Могучее дерево до сих пор украшает внутренний дворик монастыря, превращённого ныне в музей. Как знать, может быть, это та самая лиственница, которой любовался Рафаэль. Там он познакомился с доминиканским монахом художником фра Бартоломео Делла Порта, который был лет на десять его старше. Поначалу доминиканец с недоверием отнёсся к собрату по искусству. А узнав, что посетитель из Урбино и, стало быть, маркизанец, которых во Флоренции традиционно недолюбливали и относились к ним с предубеждением, как к бывшим папским мытарям, он ещё более замкнулся. О разобщённости и внутренней вражде итальянских земель говорит грубоватая пословица: Meglio un morto in casa che marchigiano alia porta — «Лучше покойник в доме, чем маркизанец на пороге».
Видимо, жизнь немало потрепала монаха. В своё время он попал под сильное влияние Савонаролы, а после его смерти временно порвал с искусством по примеру некоторых своих коллег. Но открытая улыбка и доброжелательность Рафаэля обезоружили фра Бартоломео, на самом деле оказавшегося простым отзывчивым человеком, надевшим на себя защитную маску суровости, которая отпугивала навязчивых посетителей.
Рафаэль зачастил к нему в мастерскую при монастыре, где в одной из келий жил и работал когда-то скромный монашек Беато Анджелико, мечтавший своим искусством примирить религию с политикой в назидание разжиревшей флорентийской буржуазии — popolo grasso, чрезмерно пекущейся лишь о мирском. С той поры искусство сделало большой рывок, в чём нетрудно убедиться, если в том же монастыре Сан-Марко сравнить пронизанные духом чистой и по-детски наивной веры фрески блаженного монаха Анджелико с работами фра Бартоломео, которые впечатляют своей поразительной аскетической простотой. Частности и детали его не интересовали вовсе, так как он был художником целого. Обнажённая натура разрабатывалась им лишь в общих чертах, ибо для него важно было создать иллюзию движения. Перед ним блекли мишура светской живописи и набившее оскомину мелочное изящество живописи церковной. Его подлинная стихия — это впечатляющие мощью объёмы и размах общего движения, что Рафаэль отметил во многих заинтересовавших его работах фра Бартоломео, в частности в «Страшном суде». Но и для монаха-художника знакомство с молодым коллегой оказалось весьма плодотворным. От него он многое узнал о перспективе и работах Пьеро делла Франческа, учителя отца Рафаэля Джованни Санти. Как считает Вазари, «Рафаэль заимствовал у фра Бартоломео всё то, что считал для себя потребным и что было ему по вкусу, а именно некоторую умеренность исполнения как в рисунке, так и в колорите, и, смешивая эти приёмы с некоторыми другими, отобранными им в лучших произведениях других мастеров, он из многих манер создал единую, которая впоследствии всегда считалась его собственной манерой…».35