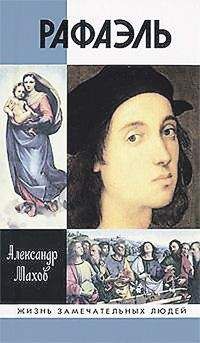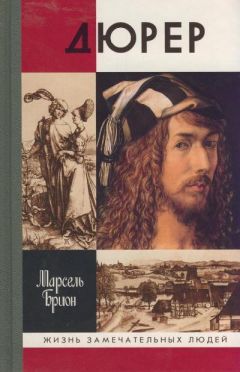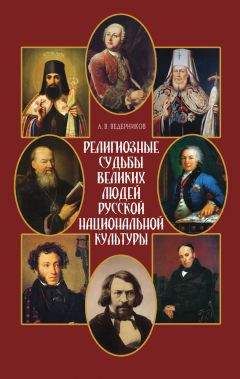Переживший блеск эпохи Медичи и крах Савонаролы, Боттичелли своими последними работами выразил предчувствие того, что его Флоренция утрачивает ведущую роль в искусстве и культуре. Находясь в подавленном состоянии, он создал пронзительный по силе драматизма образ несчастной босой женщины в рубище. Мы не знаем, какое наименование было дано самим автором своему детищу. Название «Покинутая» появилось в литературе позднее.
Закрыв лицо руками, героиня картины сидит на ступенях, сбросив одежду на землю, перед запертыми воротами и неприступной стеной. Отсюда как из каменного мешка нет выхода. Единственное яркое пятно картины — это кусочек голубого неба, которое робко проглядывает сквозь ощетинившиеся железными шипами ворота. Согбенная от безысходности фигура олицетворяет замурованную душу, отрешённую от божественной благодати.
Эта аллегория безысходности и угнетённости духа произвела на Рафаэля тяжёлое впечатление. Узрев в ней трагедию добродетели, отторгнутой от божественной мудрости, он вдруг почувствовал, что задыхается без живительного глотка свежего воздуха в замкнутом помещении, и, не сказав ни слова, спешно покинул картинную лавку. Её хозяин опешил при виде клиента, убегающего в панике, даже не попрощавшись.
Проходя мимо Санта-Мария Новелла, Рафаэль вспомнил совсем другие чувства и настроения, переполнявшие его после первой встречи с Леонардо, и полученный от него заряд бодрости вместе с желанием творить. Его поразили тогда тактичность великого мастера в общении с разными людьми и спокойный располагающий к себе тон голоса.
* * *
Однажды в компании местных эрудитов, любивших порассуждать, сидя на скамейках дворца Спини перед колонной Справедливости, привезённой из терм Каракаллы, Рафаэль стал свидетелем спора по поводу одной мысли Данте, высказанной им в сочинении De vulgari eloquentia («О народном красноречии»). Он с интересом слушал рассуждения учёных мужей о великом земляке. К спорящим эрудитам присоединился прогуливающийся Леонардо в сопровождении учеников, и им захотелось узнать его мнение по существу обсуждаемой темы.
— Вполне очевидно, — сказал он, — что выросший из учёной латыни новый разговорный язык, по мысли Данте, должен обогащаться за счёт имеющихся у нас диалектов. Ведь это подлинный кладезь народной мудрости, и он неисчерпаем. Меня эта мысль давно занимает.
Вскоре к группе беседующих подошёл Микеланджело. Услышав, о чём разговор, он хотел было проследовать дальше, но его остановил Леонардо:
— А вы, коллега, что думаете на сей счёт? Ведь вы считаетесь у нас знатоком Данте.
По лицу Микеланджело пробежала тень недовольства. Видимо, почувствовав, что именитый мастер решил его при всех поставить в трудное положение, он грубо ответил:
— Тебе бы, умник, не о Данте рассуждать, а подумать о миланцах, которых ты оставил с носом, так и не закончив заказанную ими конную статую.
Наступило молчание. Всем было неловко за резкий выпад Микеланджело, который, не попрощавшись, удалился. Но грубость не вывела Леонардо из равновесия. Улыбнувшись, он сказал:
— Не стоит обращать на это внимания. С нашим братом художником часто такое случается. Когда мы во власти какой-нибудь идеи, то нередко забываем о правилах хорошего тона. Кстати, о языке простонародья. Послушайте одну историю, которую мне довелось недавно услышать. Как-то друзья спросили у одного деревенского художника: «Картины у тебя бесспорно хороши, но отчего твои конопатые дети столь неказисты?» И услышали такой ответ: «Картины я пишу днём, а вот детишек делаю в потёмках».
Все весело рассмеялись, и от прежней неловкости не осталось и следа, а Рафаэль лишний раз убедился, насколько велик и мудр Леонардо. Он никого не подавлял превосходством ума и охотно делился со всеми, кто обращался к нему, знаниями и опытом. Люди тянулись к нему как к доброму волшебнику, заворожённые его одухотворённой красотой. А он был воистину красив — статен, высок, доброе лицо с правильными чертами обрамляла вьющаяся русая бородка. Позже Рафаэлю удалось запечатлеть его благородный облик на одной из римских фресок.
Как ни велика была его слава живописца и эрудита, Леонардо упорно совершенствовал свои знания и не мыслил себе жизнь без постоянного поиска, считая, что «берущийся за дело без должных знаний подобен мореплавателю, отправляющемуся в путешествие без руля и компаса». Современники, наслышанные о его увлечении наукой, считали это прихотью и корили мастера за «забвение» интересов искусства, а заказчики часто выражали недовольство несоблюдением художником сроков сдачи работы из-за чрезмерной занятости научными изысканиями. Как-то за ужином в доме Таддеи, на который были приглашены его друзья коллекционеры, Рафаэль услышал от одного из них:
— Я заплатил Леонардо солидный аванс за «Поклонение волхвов». Прошло полгода, а заказ всё ещё не выполнен.
Для любого человека, кто встречался с Леонардо, многое в нём было непостижимым и таинственным, равно как и загадочная улыбка его «Джоконды», над которой он продолжал неспешно трудиться, так как доведение до завершения всякого начинания не было его уделом и главным был процесс творчества как путь к познанию истины.
О любви Леонардо к животным, особенно к птицам, ходили легенды. Например, в недавно обнаруженном письме флорентийского купца Андреа Корсали из Индии сказано: «…жители этой далёкой сказочной страны, подобно нашему знаменитому Леонардо, не позволяют чинить животным никакого зла». Об этом хорошо были наслышаны флорентийские мальчишки, которые тащили в мастерскую к художнику бездомных собак, раненых птиц, диковинных бабочек, зная, что их всегда ждёт щедрое вознаграждение. А местные птицеловы ждали, как праздника, появления Леонардо на рынке близ Сан-Лоренцо. Не торгуясь, он платил за облюбованных им пленниц, томящихся в клетках, и тотчас выпускал на волю, любуясь, как птицы парят в небе, обретя нежданную свободу.
Стоило мастеру появиться на улице в сопровождении неизменной свиты учеников и восторженных поклонников, прохожие тут же останавливались, а люди высыпали из домов, чтобы ближе разглядеть человека, ставшего при жизни легендой. Он был предметом такого обожания и поклонения, что многие, особенно молодые люди, подражали его походке, манере говорить и одеваться.
От природы Леонардо был наделён недюжинной силой, без труда гнул подковы и стальные прутья. Ему не было равных в фехтовании, а как наездник он мог усмирить любого норовистого скакуна. Превосходно играя на лютне, которую смастерил сам в виде лошадиной головы, он любил в кругу друзей импровизировать, подбирая музыку к сочинённым им сонетам и мадригалам. К сожалению, время их не сохранило. Едва он начинал говорить, как все разом умолкали, прислушиваясь к его чарующему голосу. Его словесный портрет мог бы быть дополнен стихами его постоянного соперника Микеланджело, сочинёнными значительно позднее и обращёнными к другому лицу: