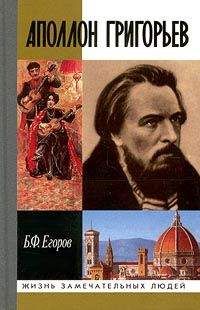Григорьев со свойственными ему крайностями считал Бецкого чуть ли не исчадием ада, «гнусной гнидой с неприличных мест грыжи Закревского» (из письма к Погодину от 18 сентября 1857 года; Закревский — московский генерал-губернатор, один из самых отвратительных вельмож николаевской поры; Александр II скоро его отправит в отставку). Бецкой, наверное, был туповатым, ограниченным, очень добропорядочным христианином и монархистом, Григорьева явно не любил за его вольные мысли и вольное поведение; юному князю Ивану он занудно втолковывал правила православного катехизиса. Но все-таки исчадием ада он не был. Его сокурсник по Московскому университету Ф.И. Буслаев, весьма объективный мемуарист, дает ему такую характеристику в «Моих воспоминаниях»: «Весною 1875 года провел я целый месяц во Флоренции и чуть не каждый день видался с Бецким, возобновляя и освежая в памяти наше далекое, старинное студенческое товарищество, и тем легче было мне молодеть и студенчествовать вместе с ним, что он, проведя почти полстолетия вдали от родины, как бы застыл и окаменел в тех наивных, юношеских взглядах и понятиях о русской литературе и науке, какие были у нас в ходу, когда в аудитории мы слушали лекции Давыдова, Шевырева и Погодина. Этот милый монументально-окаменелый студент у себя дома в громадном кабинете забавляется откармливанием певчих пташек, которых развел многое множество в глубокой амбразуре всего окна, завесивши его сеткою. А когда он прогуливается по улицам Флоренции, постоянно держит в памяти свою дорогую Москву, отыскивая и приобретая для нее у букинистов и антиквариев разные подарки и гостинцы, в виде старинных гравюр и курьезных для истории быта рисунков, и время от времени пересылает их в московский Публичный и Румянцевский музей». Добавим еще, что подобные же коллекции Бецкой посылал в петербургскую Публичную библиотеку и в Харьковский университет.
Центральной фигурой в доме была мать князя Ивана, княгиня Леопольдина Юлия Терезия Трубецкая, урожденная Морен (Григорьев ее принимал за итальянку, но она была француженкой). Житейски, видимо, очень неглупая, погруженная в семейные дела (выдача дочери замуж, решение судьбы сына — куда отдавать учиться, какие-то земельные споры об итальянских родовых имениях), деспотическая к слугам (Григорьев неоднократно говорил, что она целый день бранится, как кухарка) и к домочадцам: однажды Бецкого оставила без обеда за какой-то проступок! К Григорьеву отнеслась с уважением, видя его образованность и умение обучать ленивого сына, но тоже попыталась взять его в ежовы рукавицы. Делала несколько мелких замечаний — он стерпел, отшутился. Но когда она ему заметила, что у них не полагается возвращаться после десяти вечера, то он тут же — конечно, не имея гроша в кармане, — переехал в дом, где сдавались меблированные комнаты, и все оставшиеся месяцы 1858 года (а переехал в начале февраля) прожил отдельно, потеряв и кров, и пищу — и лишь приходя к Трубецким учить князя Ивана. Неизвестно, где он в чужом городе, в чужой стране находил традиционных для себя кредиторов, но, разумеется, одного учительского жалованья на широкие запросы и самостоятельное житье-бытье ему явно не хватало. Наверное, Григорьева очень выручил граф Г.А. Кушелев– Безбородко — об этом речь пойдет в следующей главе.
Поселился Григорьев на улице Святых Апостолов (Борго Санти Апостоли), первой улице центра города, параллельной реке Арно и располагавшейся между главными мостами через реку — Понте Веккио и Понте Тринита. Улица эта — одна из древнейших во Флоренции; она насыщена дворцами XIV—XV веков, но возникла, наверное, еще в первом тысячелетии после Р.Х., так как «Борго» по-итальянски означает не улицу, а «предместный поселок» — когда-то здесь была окраина города. Через маленькие переулочки между улицей и набережной Григорьев выходил гулять на Арно. Из нового жилья ему рукой было подать и до Уффици, и до Питти, да и дворец Трубецких был близко.
Любые «каникулы» (на рождественские, пасхальные и другие праздники) он использовал для поездок в другие города Италии. Первые дни января 1858 года он провел в Сиенне, где проследил всю историю сиенской школы живописи, посещая собор, церкви, Академию изящных искусств (картины и фрески Д. ди Буонисенья, А. и П. Лоренцетти, Б. Перуцци и др.). В апреле он взял у Трубецких отпуск и две недели наслаждался Римом; как он писал И.С. Тургеневу, «блаженствовал лихорадочно».
Великое искусство Италии, наверное, подталкивало Григорьева и на собственное творчество. Помимо не очень большого числа стихотворений, он собирался создать книгу очерков о своем пребывании за границей, книгу размышлений о родине, о мире — «К друзьям издалека». Эх, если бы он написал такую книгу! Замысел был огромный, книга состояла бы из пяти частей: «Море», «Дорога», «Жизнь в чужом краю», «Искусство», «Женщины». Как сообщил автор Фету 3 февраля 1858 года, он уже написал первую часть «Море» — целых восемь печатных листов! — и отправляет А. В. Дружинину для «Библиотеки для чтения». Но ни странички из этой рукописи не сохранилось. Потерялась в дороге? Пропала у Дружинина? А может быть, Григорьев, желая что-нибудь подправить, задержал рукопись у себя и потом по безалаберности оставил у Трубецких, когда переезжал на нанятую квартиру? Как раз ведь его уход из дома Трубецких приходится на те дни. Очень, очень обидна эта пропажа. Несколько лет спустя, находясь в Оренбурге, Григорьев опять задумал книгу очерков о своих поездках — и опять до нас ничего не дошло, может быть, тогда писатель и вообще еще не приступал к работе.
Вскоре после Рима Григорьев стал собираться вместе с Трубецкими в летний Париж; семейная кавалькада отправилась в конце мая через Ливорно—Геную—Марсель, то есть пароходами до французского берега. В Генуе была остановка, и наш путешественник смог осмотреть художественные галереи и церкви. По прибытии в Париж он опять пожелал жить самостоятельно и, имея всего червонец в кармане, начал слоняться по гостиницам. Еще только осваиваясь во Флоренции, он уже писал Е.С. Протопоповой 1 сентября 1857 года: «В Италии мне так же гадко, как будет в Париже через два дня по приезде, как было и будет в Москве». Воистину. Первые дни, конечно, ушли на многочасовые посещения художественных музеев. Лувр особенно притягивал Григорьева, а там — Венера Милосская. В Италии наш литератор впервые познал и прочувствовал живопись — она «запела», а Париж, Лувр, впервые показал ему, что такое настоящая скульптура, мрамор Венеры Милосской «запел» для него… Как в галерее Питти он подолгу разговаривал с «Мадонной» Мурильо, так в Лувре часами находился у Венеры Милосской и вел с ней беседы. И — богиня ведь! — молил ее послать ему женщину — жрицу любви, а не корыстного разврата.