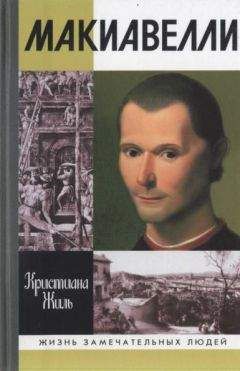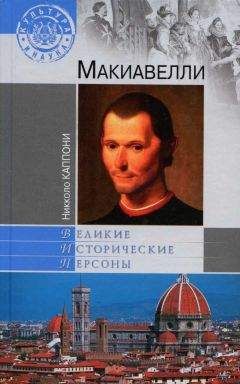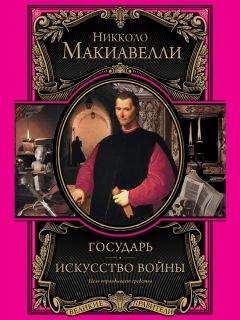Тут нам следует вспомнить о словах Буонаккорси, который считал, что Макиавелли не способен «пресмыкаться», хотя это качество помогло бы ему получить хоть какую-то защиту от тех, кто клеветой стремился лишить его должности. Необходимо помнить об этом, чтобы оценить неприкрытую — бесстыдную, скажет кто-нибудь, — лесть этих стихов и, конечно же, их иронию. Но все же писать о своих собратьях по несчастью: «Пусть подыхают в петле. В добрый час! А я помилования жду от вас» — это уж слишком! И не надо говорить о страхе и отчаянии, толкавших его на любые низости, лишь бы избавиться от вшей, «жирных и огромных, точно бабочки», и от беспрестанного грохота дыбы, подобного «молнии Юпитера»! В этих стихах нет и следа отчаяния! Никколо просто прикинулся дурачком, что советует в «Рассуждениях…» делать всем, у кого нет возможности начать открытую войну с государем, которым недовольны. «Прикидываться дурачком можно весьма успешно, если хвалить, говорить, смотреть и во всем и всегда действовать вопреки своим собственным склонностям, но сообразно склонностям государя», дабы войти к нему в милость, которая одна только может обеспечить безопасность, и быть готовым, когда придет пора, «подняться в нужный момент над его прахом».
Самого себя Никколо представить в такой роли не мог. Он прикинулся дурачком лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание Джулиано, позабавить его — государь этот слишком умен и хорошо образован, чтобы принять за чистую монету то, что является всего лишь особенностью жанра, — и, кто знает, может, внушить ему мысль сделать остроумца своим придворным шутом. Ведь выйдя из тюрьмы, Никколо вынужден будет как-то зарабатывать себе на жизнь. Почему бы и не пером? Что еще ему остается?
Тюремное заключение окончательно убило надежду, прежде вполне реальную, вернуть себе должность, после того как будут проверены и подтверждены его счета. И именно это обстоятельство стало первопричиной отчаяния Макиавелли.
Когда пришло известие о том, что 11 марта кардинала Джованни Медичи избрали папой и он вступил на престол святого Петра под именем Льва X, Макиавелли все еще томился в Барджелло[79]. До его темницы доносились крики радости, треск праздничных фейерверков и веселая музыка. Флоренция упивалась вином, танцами и счастьем, позабыв про Великий пост. Впервые папой был избран флорентиец! И какой флорентиец! Сын Лоренцо Великолепного, тот, о ком отец говорил, что он мудр, тогда как из двух его братьев — Джулиано и Пьеро — один был добр, а другой — безумен. Тридцатисемилетний круглолицый любезный понтифик с близоруким, но приветливым взглядом был избран единогласно. «Все почувствовали вдруг, что Лев пришел к власти и железный век превратился в золотой; так все изменилось, и изменилось столь быстро, что в этом усматривали десницу Божию», — писал Эразм Роттердамский. «Цезарю унаследовал Август», — говорили все.
Что бы это ни было: милосердие Августа или сделка с его самым серьезным соперником, кардиналом Содерини, который снял свою кандидатуру, что и позволило кардиналу Медичи взойти на папский престол (такие вопросы решались путем переговоров), — но папа простил своих политических противников. Бывший гонфалоньер может возвратиться из Рагузы, обвиненные в заговоре — выйти из тюрьмы, а Макиавелли — из своей темницы.
13 марта Никколо кажется, что «наступающие времена увидят больше щедрости и меньше недоверия». Он надеется, что его друг Франческо Веттори, находившийся в Риме, сможет добиться для своего друга пусть самого скромного, но места.
Веттори пришел в замешательство. Конечно, он хорошо устроился в Риме: уважение, которым пользовался его брат, сказалось и на нем, и накануне смерти Юлия II он стал флорентийским послом в Ватикане. И чтобы сохранить свое влияние, он не хотел компрометировать себя ради человека, внушающего подозрения, хотя и не решался признаться в этом даже самому себе. Поэтому он делает вид, что не уклоняется от исполнения дружеского долга, и разражается 15 марта потоком добрых, однако ни к чему не обязывающих слов: «Я в отчаянии от того, что ничем не смог вам помочь, как того заслуживало доверие, которое вы ко мне питали… Теперь, дорогой друг, я хочу этим письмом сказать вам только одно: мужественно примите неудачу, как вы уже не раз это делали; надейтесь — ибо умы успокаиваются, а удачливость этих людей превосходит воображение, — что вы не всегда будете повержены; и наконец, как только вы сможете свободно пересекать границы, я приглашаю вас пожить у меня так долго, как вы того захотите, если, конечно, я сам останусь здесь, в чем не уверен».
Не следует требовать от людей большего, чем они могут дать. Неужели Никколо не ведал этой истины? Он слишком многого ждал от своего очаровательного друга, одаренного умом, что делало общение с ним особо приятным. Веттори же прекрасно знал себя. «Ты знаешь, насколько я труслив и всего боюсь», — однажды напишет он брату; а 30 марта во втором письме к Никколо: «Хотя я и не возношусь, когда Фортуна ко мне благосклонна, я унижаюсь, когда она отворачивается от меня, и начинаю сомневаться во всем». На него нельзя положиться — это весьма недвусмысленное предупреждение могло бы умилить своей искренностью, если бы не сопровождалось призывом «мужественно принять неудачу».
Никколо в своем ответном письме держится твердо: «…Если наши новые хозяева пожелают дать мне возможность подняться, я буду этим тронут и думаю, что поведу себя так, что они будут довольны. Если они этого не сделают, я удовольствуюсь тем, что буду жить здесь в том состоянии, в каком пришел в этот мир, ибо я родился в бедности и дольше обучался в школе лишений, чем в школе удовольствий».
«Хотя я и не прошел школу лишений в юности, — отвечает уязвленный Веттори, — я усердно буду посещать ее в старости». Он принадлежал к тем людям, которые словами «и я тоже» заставляли замолкнуть надоедливых просителей, к тем, кто признавал свою вину, дабы обезоружить жалобщика, и готов был сам себя высечь. Весьма вяло защищая интересы Тотто, брата Никколо, скромного священнослужителя, желавшего попасть в папский список для получения какого-нибудь денежного вспомоществования, Веттори старается предупредить возможные упреки: «Я уверен, друг мой, вы будете думать про себя, что я выбрал весьма своеобразный способ вести свои дела, и хотя судьбе было угодно поместить меня, посла, у самой колыбели нового понтификата, я не сумел быть достаточно убедительным для того, чтобы включить в список близкого мне человека. Признаюсь, что это, правда, и во многом моя вина, потому что я неловок и не умею помочь ни себе, ни другим». Он кается в надежде навсегда отбить у своего дорогого Никколо желание о чем-либо его просить. «…Везде, где бы я ни был, будь то в деревне, во Флоренции или здесь, я буду всецело предан вам, как и всегда был. Я сожалею о том, что так плохо помог вам, хотя никогда не мог и не надеюсь в будущем помочь лучше».