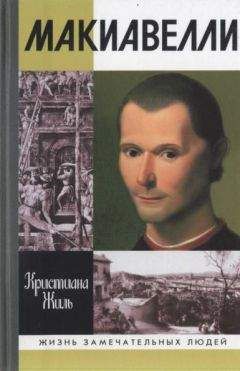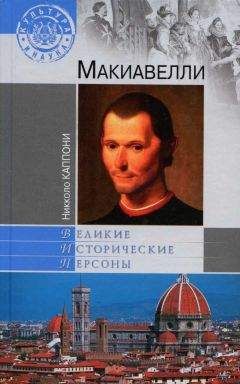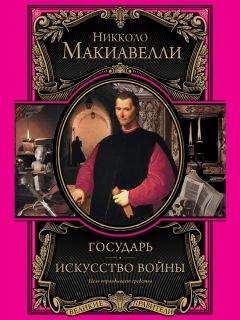Беспорядок, опустошение — вот ключевые слова. Веттори и Макиавелли были сторонниками порядка, честными буржуа, которые из страха (и отвращения) перед анархией готовы были броситься в объятия тирана, надеясь, что его диктатура будет временной! «…В развращенных городах сохранить республику или же создать ее — дело трудное, а то и совсем невозможное. А ежели все-таки ее в них пришлось бы создавать или поддерживать, то тогда необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской»[76], — напишет Никколо в «Рассуждениях…».
Необходимо было срочно начинать работать во имя мира и во имя будущего. Одновременно с новой властью всегда рождается надежда на то, что та исправит самые вопиющие ошибки своей предшественницы. Никколо хотел верить, что нынешние государи не пойдут по пути своих предков, которые привели к власти Савонаролу («опыт учит» — это распространенное заблуждение часто вновь приводит к власти людей, ранее потерпевших фиаско на политическом поприще), и исправят ошибки последнего правительства, бессилие которого так его возмущало. Кто знает, может быть, Медичи, имея хороших советников, преуспеют там, где Содерини потерпел поражение? В желании Макиавелли сыграть роль, к которой его подготовили, как он сам не без горечи скажет, все годы, проведенные на службе у государства, — годы, «которые он не проспал и не проиграл», — не было ничего постыдного. Служить новым хозяевам Флоренции значило также служить самой Флоренции. А он только это и умел: «…Я не умею беседовать о шелке и шерсти, прибылях и убытках; мне необходимо беседовать о делах государственных или обречь себя на молчание».
Подобная искренность обезоруживает. Неужели Никколо не понимал, что он «заклеймен» именем Содерини, именем, которое после трагедии Прато, ответственность за которую предпочли возложить на бывшего гонфалоньера, а не на Медичи, хотя именно их действия стали ее первопричиной, внушало отвращение народу? В Прато оплакивали не только тысячи жизней, но и, что еще горше, престиж и честь флорентийцев. Беспорядочное бегство милиции покрыло Флоренцию позором, и именно этого позора не могли простить отцу ополчения, которого больше не существовало: его упразднили так же, как поспешили упразднить все другие республиканские институты, но горечь и злоба остались. Человек Содерини всем мешает, никто не хочет, чтобы он болтался по коридорам Палаццо Веккьо и совал свой нос в бумаги, а во дворце Медичи этот советчик всех раздражает.
Решение избавиться от Макиавелли было принято гораздо раньше, чем он узнал об этом из декрета Синьории, датированного 7 или 9 ноября и отстранявшего его от всех должностей.
Вскоре после государственного переворота ловко, тайно, как было заведено у Медичи, которые всегда избегали любого намека на то, что они добиваются именно личной власти, кардинал Джованни незаметно захватил все рычаги управления и провел чистку правительственных органов. В Канцелярии Макиавелли заменили на бывшего секретаря семейства Медичи. Преданный соратник Никколо Бьяджо Буонаккорси разделил с ним опалу, что не только не утешило Макиавелли, но многократно умножило его растерянность: у него больше не было никакой поддержки во дворце, где торжествовали его соперники и где все делали вид, что не знакомы с ним. Его даже не пускали в здание, хотя и потребовали предоставить отчет о расходах на управление милицией и внести залог в тысячу флоринов, запретив ему покидать территорию государства вплоть до утверждения его отчета. В этой обычной организационной процедуре просматривалось тогда явное желание новых властей погубить Никколо или, скорее всего (надо помнить о том, кем был Макиавелли для своих современников, и забыть о том значении, что он приобрел по прошествии столетий), окончательно дискредитировать Содерини, выдвинув против его подчиненного обвинение в должностном преступлении.
Никколо защищался как мог. То, что секретарь Канцелярии может лишиться всего имущества, не волновало и не интересовало никого: об этом нет упоминаний ни в хрониках, ни в мемуарах. В одном из писем к Содерини Никколо, из предосторожности разбавляя современность потоком исторических замечаний относительно невозможности найти верный способ обеспечить человеку успех — тема, к которой он будет настойчиво возвращаться в своем творчестве, признается: он «дошел до такого состояния, что ничему больше не удивляется», с горечью открыв для себя, что «ни чтение, ни опыт не научили его разбираться в делах людей».
* * *
Макиавелли думал, что, пережив 16 сентября, он уже все повидал и испробовал, однако ему оставалось пережить еще одно испытание, самое тяжкое. Его обвинили в заговоре против Медичи, арестовали, заковали в кандалы и пытали. Шесть раз его поднимали на дыбу, и впоследствии он будет гордиться тем, что достойно перенес эти мучения.
Даже дознаватели вынуждены были отметить, что Никколо, сыну мессира Бернардо Макиавелли, не в чем было признаваться, если не считать его давнего знакомства с заговорщиками, молодыми людьми из хороших семей, Пьетро Босколи и его другом Агостино Каппони, которые уже давно привлекли к себе внимание политической полиции Флоренции своими крамольными воззрениями. Что до того, каким образом и почему его имя фигурировало в записке, которую выронил из кармана один из этих двух юных безумцев, игравших в заговорщиков (если, конечно, такой документ действительно существовал), Никколо не мог объяснить, даже вися на дыбе.
Игра стоила жизни неосторожным республиканцам, мечтавшим о реванше: 22 февраля юноши были обезглавлены. Это дало возможность кардиналу Джованни спокойно отправиться в Рим на заседание конклава: в ночь на 21 февраля Юлий II отдал наконец Богу душу.
Следствие закончилось 8 марта. Сообщники Босколи и Каппони и те, кого считали таковыми, потому что было доказано, что они обсуждали с казненными «способы проведения революции» (вполне возможно, это были лишь простые интеллектуальные упражнения, столь любимые гуманистами), были приговорены к ссылке. В их числе — Никколо Валори, друг Макиавелли, разделивший с ним трудности первой легации во Францию. Осужденные находились в тюрьме, ожидая, когда приговор будет приведен в исполнение.
Что касается Никколо, томившегося в застенках Барджелло без всякого приговора, то создавалось впечатление, что о нем просто забыли. Он был мелочью, которой можно было пренебречь. Его незаконное заточение никого не волновало. На что, на кого мог рассчитывать он, чтобы выбраться оттуда? Брат Франческо Веттори входит в правительство, но его нет в городе; Франческо Гвиччардини еще не вернулся из Испании, куда его назначил послом Содерини; Ридольфи и Строцци[77], по-прежнему весьма влиятельные друзья экс-секретаря, которые, скорее всего, и одолжили ему денег для внесения залога[78], требуемого до окончательной проверки счетов, наверное, думали, что и так достаточно сделали для него, и опасались еще больше себя скомпрометировать. Макиавелли советуют обратиться к самому Джулиано Медичи. Брат кардинала Джованни, получивший после женитьбы на Филиберте Савойской титул герцога Немурского (первый знатный титул в этой семье), слывет другом литературы и искусства; его считают человеком достаточно гуманным и чувствительным, чтобы сжалиться над судьбой не экс-секретаря экс-гонфалоньера, но поэта. И Макиавелли сочиняет два сонета, посвященных «Великолепному Джулиано Медичи».