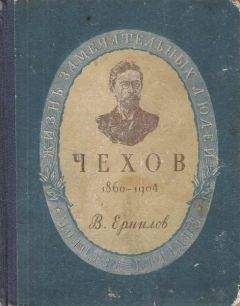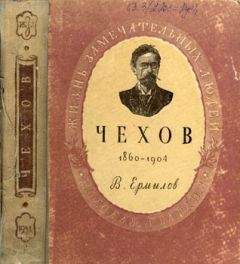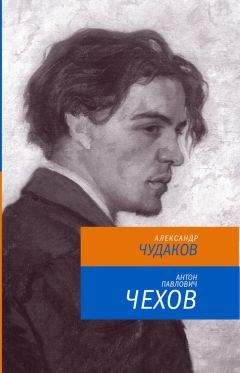Такая зрелость гнева, такое острое чувство, что нельзя так жить человеку, что нужно немедленно, сейчас же очищать землю от хлевов своекорыстного «счастья», построенного на несчастиях подавляющего большинства людей, — все это являлось новым в литературе. Тут уже ясно звучали мотивы кануна, непосредственной близости перемены всей жизни, призыв к возмущению против спокойствия наглых и сытых.
На наших глазах маленькая невинная ягодка крыжовника расширяется, растет, набухает, становится, наконец, грандиозной, заслоняет весь земной шар, превращаясь в насмешливый символ. Власть собственности накладывает свою тяжелую лапу на все, делает все на свете «невкусным», жестким, кислым, отвратительным, лишает жизнь ее радости.
Тема убожества, безобразия, своекорыстного «счастья» с большой силой прозвучала уже в рассказе «Учитель словесности» (1894).
Молодой преподаватель словесности в провинциальной гимназии Никитин женится на девушке из «хорошей семьи», с солидным приданым.
В первые месяцы семейной жизни чувство счастья переполняет его.
«— Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость, — говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. — Но на это свое счастье я не смотрю, как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья, и теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое. Сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность, — все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью…»
Как типичны эти рассуждения для всех «счастливчиков» собственнического мира!
Но чеховский герой на то и есть чеховский, что, в отличие, например, от героя бальзаковской «Человеческой комедии» Растиньяка, преуспевающего в карьере и обогащении, он не может удовлетвориться личным счастьем и благополучием.
Приходит и к Никитину, как и ко всем любимым героям Чехова, такой день, когда он со стыдом и отвращением, настоящими человеческими глазами взглянул на свою жизнь и увидел всю ее пошлость. Все предстало перед ним в суровом, ясном свете, без розовой пелены.
«И ему страстно, до тоски… захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвений самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны… Для него уже было ясно, что покой потерян, вероятно, навсегда… Он догадывался, что иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем».
Сознательная, честная жизнь несовместима с личным счастьем! «Счастья нет и не должно его быть». «Счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь, все равно, не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорашивать тебя ударами» (из записной книжки Чехова).
В статье, посвященной повести «В овраге», Горький с мудрым проникновением в «тайное тайных» чеховского творчества сказал, что Чехов, «как никто», «в ослепительно ясной форме» раскрывает в своих произведениях противоречие между стремлением человека быть лучше и стремлением лучше жить. В эксплуататорском обществе эти человеческие стремления несовместимы. Жить лучше там можно только за счет других. И лучше всех там живется тому, кто хуже всех, кто наиболее бесчеловечен.
Мечта Чехова — это мечта о таком устройстве жизни, когда будет уничтожено это извечное противоречие, когда естественные стремления человека сольются в одно целое, когда лучше будет житься тому, кто хочет быть лучше! А пока этого нет, счастье возможно только в стремлении к справедливому будущему, только в тяжелом труде во имя этого будущего. Всякое иное счастье безнравственно, уродливо, ощущения его оскорбительно однообразны, нищенски жалки.
Эти ясные выводы, к которым пришел Чехов, были связаны со все возраставшим у него чувством ответственности перед народом.
В рассказе «По делам службы» (1899) молодой судебный следователь Лыжин приезжает вместе с доктором в село на вскрытие трупа самоубийцы. Метель, унылый нищенский неуют крестьянской жизни, темная земская изба, самоубийство какого-то неудачника, страхового агента, фигура старика-сотского («цоцкай», как он называет себя), который вот уже тридцать лет, в непогоду, стужу, ветер, мороз, «ходит по форме», разнося в своей сумке пакеты, повестки, бланки, окладные листы, — все это оседает тяжелым сумраком, в душе Лыжина. Темная, глухая, холодная жизнь!
На ее фоне представляется каким-то невозможным, волшебным видением теплый, уютный, праздничный помещичий дом, куда приезжают из села доктор и следователь, изящные барышни, роскошь, музыка, веселый смех…
Лыжину «такое превращение казалось… сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он все думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что все здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя…»
Следователь провел беспокойную ночь в мягкой удобной постели в барском доме; ему казалось во сне, что он не в гостях у помещика, а все еще в земской избе, где лежит труп страхового агента. И он увидел странный сон. Будто самоубийца и старик — «цоцкай» «шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:
— Мы идем, мы идем, мы идем.
Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели точно в театре:
— Мы идем, мы идем, мы идем… Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу… Мы не знаем покоя, не знаем радостей… Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей и вашей… У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем…
Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон!»
Он раздумывает о своем сне, и его «давняя затаенная мысль» впервые «развернулась в его сознании широко и ясно». Это мысль о том, что в жизни нет никаких самостоятельных «отдельных кусков», «отрывков», а все связано между собой теснейшей связью, что и несчастный, надорвавшийся человек, лишивший себя жизни, и «старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку», и праздничный мираж помещичьего дома — все это лежит на его, Лыжина, совести, за все это он, лично он несет всю ответственность.
«И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой… И опять: