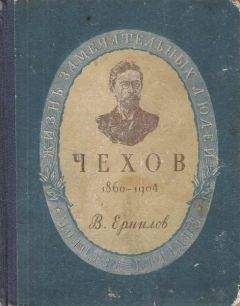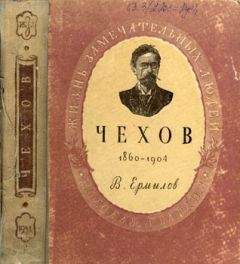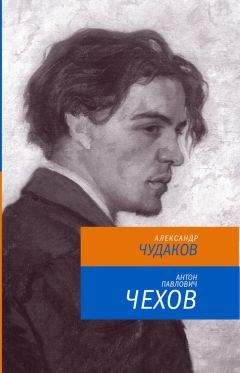Любопытна даже и эта деталь — что Чехов вместе со своим героем мечтает о процессиях, о фейерверке, о каком-то широком, большом, общем празднике! Новая красота идет в мир, красота для всех, красота свободы, небывалой широты жизни. Замечателен взгляд героя рассказа на само го себя откуда-то сверху — из будущего! — как на «тип» уже пройденной, отшумевшей эпохи, отходящей в туман прошлого. Поэт как будто слышит живые голоса, доносящиеся из будущего, видит иных людей, знающих, что и как нужно делать, завоевавших право и на радость и на любовь.
Так прямо смотреть в глаза будущему, видеть его пристальный взгляд на самом себе, слышать его дыхание рядом с собой умел лучший, талантливейший поэт советской эпохи — Владимир Маяковский. И так же слиты были для него с образом будущего и личное счастье и любовь.
Герои Чехова «откладывают» любовь и счастье на будущее, — для тех, кто будет жить после них, — потому что только в будущем любовь и счастье станут достойными самих себя, очистятся от пошлости, грязи. И разве не мог бы чеховский герой сказать о той любви, от которой он бежит: «Любовь цыплячья! Любвишка наседок!» (Маяковский. «Про это»). Разве не мог бы Чехов сказать о маленькой любви, отгораживающейся в свою себялюбивую скорлупу от общей жизни:
Что толку —
тебе
одному
удалось бы?!
Жду,
чтоб
землей обезлюбленной
вместе
чтоб всей
мировой
человечьей гущей!
И кажется, что Чехов мог бы, как и Маяковский, обратиться к Будущему:
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Образ женщины, возникающей в воображении чеховского героя, — женщины, которая, «если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда», — этот образ поразительно близок мечте о том, «чтоб всей вселенной шла любовь», чтобы любовь была живым началом всей жизни на свободной, чистой, человеческой земле. Чехов мог бы сказать, что всем биением сердца, всем напряжением тоски, всем размахом мечты он «бросается» в завтрашнюю чистую, справедливую жизнь, потому что нет ему без нее любви!
Редко у какого художника можно встретить такое глубокое, тонкое изображение любви, ее счастья и горя, как у Чехова. Достаточно вспомнить «Даму с собачкой», «О любви», любовь Маши и Вершинина… Смешно было бы думать, что Чехов «запрещал» себе или своим героям любовь, радости семейной жизни. И все же у него нельзя найти той семейной идиллии, которую мы встретим у Льва Толстого в изображении семьи Левина и Кити, Пьера Безухова и Наташи. И не потому, что Чехов меньше, чем Толстой, ценил семью и святость семейных отношений. Но ему и его героям, с их взглядом на настоящее из будущего, уже казалось нелепым, странным такое устройство жизни, женщина отдает все силы ума, энергии, таланта только своему маленькому семейному гнезду. Как обогатилась бы жизнь, если бы часть этих творческих сил посвящалась большой радости родины, народа! Как облагородилось бы, расширилось, какой высокой, подлинной поэзией наполнилось бы тогда и семейное счастье!
Гениальный новатор, Чехов стремился осветить все мысли, все чувства людей своего времени светом будущего.
Он работал для будущего. «Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего», — писал он в письме к Дягилеву, редактору буржуазного эстетского журнала «Мир искусства», напечатавшему хвалебную статью о «Чайке» и стремившемуся использовать это для того, чтобы привлечь Чехова к религиозному движению. «Теперешняя культура, — подчеркивал Антон Павлович, — это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что отжило или отживает».
Он добился внутренней свободы от того, «что отжило или отживает», и ветер завтрашней свободы родины все сильнее, смелее дышал в его произведениях.
Рассказ «Человек в футляре» (1898) замечателен всей своей поэтической атмосферой, предчувствием свободы.
Мрачна, зловеща фигура «человека в футляре», и достаточно еще были опасны темные силы, порождавшие и поддерживавшие Беликовых. И все же Беликов не только страшен: он еще и смешон в своем нелепом, бессильном стремлении остановить жизнь, уложить ее в «футляр», он жалок в своём страхе перед действительностью, перед всем новым, не похожим на вчерашнее. Весь рассказ проникнут дыханием свежего ветра жизни, уже не «попутного» для Беликовых. Все окружение «человека в футляре», вея жизнь противоречит ему, враждует с ним.
Уже самое сопоставление тщедушного, хилого Беликова с Варенькой Коваленко, от которой так и брызжет непосредственностью и свежестью самой жизни, подчеркивало, что Беликовы, как говорится, «не жильцы» на этом свете.
Беликов — мертвец, он как бы живет в гробу, и смерть его воспринимается всеми с облегчением, как нечто единственно возможное, единственно естественное для «человека в футляре».
Еще сильна была действительность, опиравшаяся на «человеков в футляре». И все же она была уже хилой, слабой по сравнению с подлинной свободной будущей жизнью. Недаром так силен страх Беликова перед жизнью.
Много было споров на тему: пессимист или оптимист Чехов? На той почве, на которой велся этот спор, он не мог не быть бессодержательным, схоластичным. Чехов просто не укладывался в рамки такого спора. В пессимизме его упрекали критики, которым хотелось, чтобы писатель «убаюкивал» их в их «золотых снах» — были ли это сны о мирном постепенном развитии буржуазного прогресса, или о чудодейственных кустарных артелях и сыроварнях, или о «жизни для жизни» и т. д. Это, в сущности, были люди, стремившиеся к тому самому «счастью», которое с отвращением гнали от себя чеховские герои: «к счастью», не требовавшему коренного изменения псе и жизни, построенной на рабстве. Счастье, которого хотел Чехов, не укладывалось в эту жизнь, выходило далеко из ее берегов, сносило, ломало все жалкие «трехаршинные» перегородки, маленькие загончики, сарайчики дешевого собственнического «счастья». Чеховский оптимизм был трудным, требовательным, суровым.