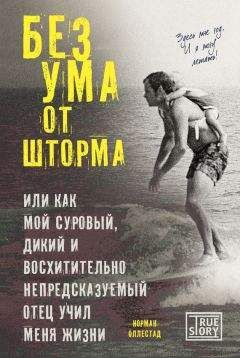Я поплыл к берегу, и течение сносило меня к югу. Прилив был довольно высокий, и я смог лечь на воду всем телом и проскочить над скалами на крутой прибрежной волне.
Я оглядел бухточку в поисках доски и увидел Ника – он стоял над спасательной станцией в своем желтом дождевике и с зонтом. Доска валялась у него под ногами. Он помахал мне, и я помахал в ответ.
Я побежал против ветра, и, когда добрался до Ника, язык у меня был на плече.
– Ну что, с тебя хватит? – спросил он.
Руки у меня повисли, как плети. В голове все звенело, и из-за головокружения мне казалось, что на лице Ника мелькают белые блики. Я потряс головой и поднял доску с земли. Не глядя на него, я побежал обратно к мысу. Привязал все, что осталось от моего шнура, к штифту доски и сделал три узла. Я знал: если накроет большая волна, привязь все равно меня не удержит. Мне не удастся стравить шнур и занырнуть вглубь: он порвется, и опять придется плыть против течения, а сил у меня оставалось уже гораздо меньше.
Я продирался сквозь пенные стены и жалел, что так мало поел. Я снова оказался к югу от лестницы Бэрроу. Сделал десять гребков, передохнул, сделал еще десять. За каждую передышку течение сносило меня на пять гребков назад. Тогда я решил двигаться медленнее, но не останавливаться. Через двадцать минут мне все-таки удалось добраться до мыса. В море были Шейн и Трэфтон.
– А где Рохлофф? – спросил я.
– Может, его уделал последний сет, – предположил Шейн.
Я высматривал Рохлоффа на пляже, но его нигде не было. Увидел я только желтый силуэт Ника на песке. Вспомнив, как он сказал: «Ну что, с тебя хватит?» – я преисполнился решимости прокатиться на этих огромных волнах. Почему-то мне казалось, что, если я спасую, Ник окажется прав насчет моего характера. Я сам дал ему эту возможность, а теперь должен был отобрать ее.
Я погреб к мысу, дальше Шейна и Трэфтона. Я знал, что они считают, будто я захожу слишком глубоко, но не оглядывался и внимательно всматривался в едкую взвесь воды и ветра, застилавшую горизонт.
Накатила волна, и я погреб к ней. Трэфтон и Шейн завизжали, желая поддержать мой боевой дух. Я забрался под «губу» и повернул голову, подставляя макушку береговому ветру. Чтобы разглядеть хоть что-то за косыми струями дождя, приходилось скашивать глаза. Тут «губа» надо мной раскололась под ветром. Я начал задыхаться от хлынувших брызг, так что пришлось закрыть рот.
Хвост доски задрался, я устремился прямиком вниз и прыжком встал на ноги. Ветер задувал под доску, я перенес вес на стоявшую впереди ногу и попытался прорваться в «карман», но доска лишь зарылась носом в воду. Я изо всех сил уперся ногами в хвост доски, и нос высвободился. Я спустился по стенке волны только наполовину, а гребень уже нависал надо мной. Под доску задувало, потому что она шла с небольшим скосом, и береговой бриз, царапавший стенку волны, едва не перекинул меня через «губу». Я как раз успел опустить борт под гребень, как вдруг меня опять сбросило на стенку. Доску швырнуло назад, и нос задрался вверх, как у мотоцикла, выполняющего маневр на заднем колесе. Мне пришлось раскинуть руки в стороны, чтобы хвост не зарылся в воду. Я потерял скорость, а стенка волны вздувалась и ширилась, грозя поглотить меня. Размахивая руками вверх-вниз, я лихорадочно завертелся и принялся пружинить ногами. Как только борта сцепились с поверхностью и доска начала слушаться, я пригнулся, уклоняясь от надвигавшегося гребня. Еще несколько пружинящих движений, и доска, сильно дергаясь, заскользила по поверхности. Тогда я согнул колени, чтобы скомпенсировать вибрацию, и доска ровно зашла в «карман».
Я направлял ее вверх-вниз, хотя и рисковал оказаться слишком близко к гребню и ухнуть вниз вместе с волной. Из-за этого я развил бешеную скорость: береговой ветер подгонял меня снизу, как реактивная струя. Гребень в очередной раз чуть не снес мне голову, и на секунду пробудились опасения. Однако я отогнал их прочь, еще энергичнее сгибая и разгибая колени. Я развил такое же ускорение, как бобслейные сани на вогнутом участке трассы. Казалось, мне передается сила волны; я словно бы вырастал из нее. Я подстроился под ее ритм, и внезапно двигаться стало очень легко. Вместе мы взлетели ввысь, сильные и свободные.
Рохлофф сидел на песчаной отмели. Когда я выбрался на берег, он подбежал ко мне и дал мне пять.
– Безумный полет, Норм! – сказал он.
Я издал радостный клич, и он похлопал меня по спине.
– Давай со мной, прокатимся еще, – предложил я.
Рохлофф взял свою доску, и мы побежали к пляжу.
– Видал? – бросил я Нику, пробегая мимо.
Он кивнул. Теперь я знал, что сделал то, чего никогда не сделает он сам: не хватит пороху. Катание по волнам дарило мне такие ощущения, каких Ник никогда не испытает. Я погреб прочь от берега, сильный и смелый, чувствуя себя частью чего-то такого, что возвышало меня над всем житейским мусором.
* * *
Я не мог открыть дверцу машины – так задубели пальцы. Нику пришлось открыть дверь изнутри. Виниловый пол был застелен полотенцами. Я подставил руки под струю теплого воздуха из обогревателя. Ник включил заднюю передачу.
– А у тебя кишка не тонка, парень, – признал он, давая задний ход.
– Спасибо, что пустил меня, – сказал я.
– Все было бы куда проще, если бы ты не врал, Норман.
– Знаю, – ответил я. – И все было бы куда проще, если бы ты не пил.
– Ну что тут скажешь, – отозвался Ник. – Ты прав. В чем в чем, а в этом ты абсолютно прав.
* * *
Ник бросил пить и держался в глубокой завязке, а вскоре умерла бабушка Оллестад. Он отвез нас с мамой на похороны. Панихида проходила в той же церквушке, где отпевали отца, – примерно в часе езды от Палисейдс. Все говорили, какая это была добрая и щедрая женщина, как много в ней было жизни. Несколько раз упомянули отца, и я содрогнулся от мысли, что все это время он наблюдал за мной и видел, насколько я озлоблен и слеп ко всему прекрасному. Я обратился к нему, словно отец витал у меня над головой, и сказал, что уже исправляюсь. «Видел, как я недавно ездил на серфинг?»
По дороге с похорон я неотступно думал о дедушке. Он стоял с очень прямой спиной, и когда все собрались у церкви, внимательно выслушал утешения каждого родственника. Сам он заговорил всего пару раз, и речи его были кратки и поэтичны, словно звуки музыки или краски картины, поднимавшие всех над суетой. В его глазах мерцали те же голубые огни, что и у нас с отцом. Еще я подумал, что папа очень скорбел бы по бабушке, но не был бы парализован горем и сыграл бы на гитаре для всех собравшихся у церкви.