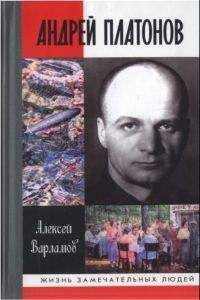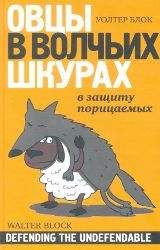Однако успеха автору эти строки не принесли. «Стихи не подошли. В них много прелести и чистой поэзии, но… берите другие темы», — сообщили ему в октябре 1918 года в журнале «Железный путь», издававшемся Юго-Восточными железными дорогами, а в мае 1919 года в органе Северо-Западных железных дорог «Жизнь железнодорожника» было опубликовано стихотворение «Степь», которое сопровождалось ироническим комментарием штатного рецензента:
«А. Платонову. У вас есть способность, пишете вы гладко, но темы настолько мизерны, что не стоит труда выливать их в рифмы. Судите сами —
Знакомой стороною
Лошадка путь кладет,
Покорно предо мною
Костлявый зад трясет.
Такая невоспитанная дама, а вы ее воспеваете в стихах. Проникнитесь важностью нашей исторической эпохи и встаньте в ряды ее певцов. Гач».
Еще более резким, откровенно издевательским был отзыв калужского журнала «Факел железнодорожника»: «Ваше „футуристическое“ стихотворение, иначе назвать нельзя, да кстати и без заглавия, поместить не можем, это ведь набор слов без всякой мысли. В Вашем стихотворении, например, есть строка: „Шабаш — доставили! Двугривенный и сотка“. Да, товарищ, доставили Ваше стихотворение в корзину, двугривенный стоит Вам заплатить, все-таки, ну а уж сотку доставайте сами… Товарищ, не теряйте времени, сейчас весна, солнце светит ярко, уж лучше займитесь пусканием матюков под солнце, чем писанием стихотворений».
На севере и на юге, на западе и на востоке начинающего поэта ждал отказ с похожими формулировками, различавшимися разве что по степени язвительности, но платоновский характер был не таков, чтоб рецензенты могли его смутить (хотя нетрудно заметить, что в окончательном варианте стихотворения «Степь» нет строфы про лошадку с костлявым задом, о которой саркастически высказался рецензент из «Жизни железнодорожника»), От поэзии он не отказывался долго, в начале литературного пути считался рабочим поэтом, утверждал, что поэзия — «такое же жизненное отправление, как и потение, т. е. самое обычное», а в другой раз, по словам своего товарища Владимира Келлера, «сравнил ее с еще менее красивым физиологическим отправлением», сочиняя сим нехитрым образом стихи вплоть до 1927 года, то есть до первого крупного успеха в прозе.
С течением лет лирика Андрея Платонова становилась более сложной, насыщенной разными смыслами. В ней причудливо переплетались эстетика пролеткульта и авангарда, очень точно она была охарактеризована Келлером в опубликованной в 1922 году в журнале «Зори» статьи «Андрей Платонов»: «Всему он свой, близкий. И не поймешь — он ли вышел из этих трав, или они из него. Голубая глубина мира ему открыта и в нем открывается тем, кто умеет видеть <…> Достигнет ли он широкой известности — не знаю. Толкаться в литературных лавочках Питера и Москвы и кричать о себе он, разумеется, не будет. А без этого теперь нельзя. Но те, кому нужен Платонов, найдут к нему дорогу. А он нужен многим».
Все это так, и последние слова Келлера оправдались в той степени, о которой ни сам автор статьи, ни его герой, ни читатели «Зорь» и не подозревали. Но, пожалуй, даже более яркое впечатление, чем поэзия, оставляет теснее, очевиднее связанная с прозой и с биографией Платонова его публицистика революционных лет, без которой как прозаик он также не состоялся бы.
В апреле 1919 года в журнале «Железный путь», который еще совсем недавно советовал молодому человеку брать другие темы и где с января по июнь 1919 года Платонов наряду с учебой в университете работал помощником секретаря редакции, появилась его статья «К начинающим пролетарским поэтам и писателям». Девятнадцатилетний автор провозгласил революцию в сфере искусства, являющуюся частью революции духа, в ходе которой пролетариат сжигает на костре труп буржуазии вместе с ее мертвым искусством и сметает с земли все чудовищное, злое, пошлое, мелкое, гадкое, враждебное жизни и расчищает место для строительства прекрасного и доброго. Вслед за фазой разрушения начнется фаза созидания. «Это будет музыка всего космоса, стихия, не знающая граней и преград, факел, прожигающий недра тайн, огненный меч борьбы человечества с мраком и встречными слепыми силами». И как некий вывод, предвосхищающий мотивы повести «Котлован», — «Чтобы начать на земле строить единый храм общечеловеческого творчества, единое жилище духа человеческого, начнем пока с малого, начнем укладывать фундамент для этого будущего солнечного храма, где будет жить небесная радость мира, начнем с маленьких кирпичиков».
В июле 1919 года с мандатом «Известий Воронежского губ-исполкома» Андрей Климентов был откомандирован в Новохоперск для ведения агитационно-просветительской работы в деревне.
«…я вспоминаю о скучной новохоперской степи, эти воспоминания во мне связаны с тоской по матери — в тот год я в первый раз надолго покинул ее, — писал он об этом эпизоде своей жизни. — Июль 1919 года был жарок и тревожен. Я не чувствовал безопасности в маленьких домиках города, боялся уединения в своей комнате и сидел больше на дворе. В моей комнате висели иконы хозяина, стоял старый комод — ровесник учредителя города, а дверь в любой момент могла наглухо закрыть жилище большевика: через окно тоже не было спасения: под ним лежал ворох колючей проволоки. <…>
Иногда я ходил в клуб рабочей молодежи — комсомол в Новохоперске еще не образовался, — мне странно было читать в доме, из окон которого виднелась бедная душная степь, призывы к завоеванию земного шара, к субботникам и изображения Красной Армии в полной славе. А кругом города, в траве и оврагах, ютились белые сотни, делая степь непроходимой и опасной».
Несколько лет спустя эти впечатления отразились с нежной горечью в «Чевенгуре», однако статьи, написанные сразу после Новохоперска, горели революционным пламенем, и никаких видимых изменений в сознании их автора в сторону разочарования в революции пребывание в уездном городке не вызвало, а лишь усилило желание «переделать все», как сказал бы Блок, или «преобразить землю так, чтобы здесь было свободно и прекрасно, как в далекой небесной мечте о рае», как писал сам Платонов в апреле 1920-го, да и в течение всего двадцатого года. Но в платоновской поэзии тех лет революционной страсти гораздо меньше. Разумеется, были стихи яростные, одни названия которых чего стоят — «Конный вихрь», «Напор», «Фронт», но случались они не так часто. Муза плохо слушалась голоса молодого коммунара, была тиха и скромна, а ее певец изначально оказался человеком противоречивым.
В публицистике он горел огнем, что прожигал земные недра: «Мы истощены, мы устали, да, — но зато жива, бодра и живоносна революция — смысл и цель нашей жизни. Будет сильна революция, оживет и Россия, а с нею и весь мир». Он призывал к мщению, к убийству: «Наступление Врангеля есть последняя судорога мертвеца — русской буржуазии. Последний вздох недодушенной, сипящей гадины… Своих врагов революция не может только временно обессиливать, она должна их расстреливать и забывать о них… Трудно убить змею: каждый отрубленный кусочек ее продолжает жить и шевелиться. Лучше всего ее истоптать и сжечь».