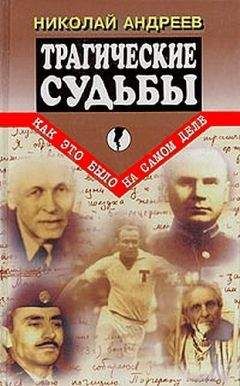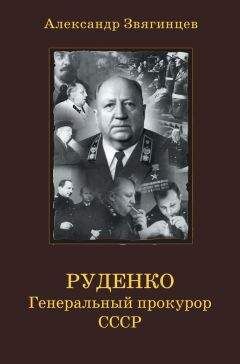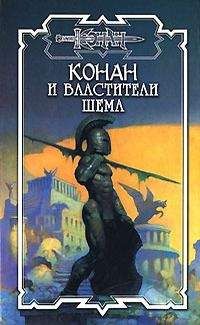Сахаров и Боннэр не плакали. Андрей Дмитриевич был возвышенно взволнован: «Странным образом этот полет воспринимался как некий момент чего-то вроде счастья». И Елена Георгиевна не впала в трагический ступор. Она сказала мне потом, вспоминая: «Каторга! Какая благодать!», — и посмотрела с интересом: знаю ли, кто автор этих парадоксальных слов? Поняв по выражению моего лица, что мне неизвестен источник цитаты, добавила: «Из Некрасова». Помолчала и добавила: «Никакого отчаяния, никакого страха не было. Мы не представляли, какой режим будет, но никакого отчаяния, никакого страха не было».
Они, разумеется, и представить не могли, сколько им придется провести в ссылке, да и никто не знал. Оказалось: семь лет! Боннэр привыкла мерить все на войны, и позже, когда Горбачев разрешил им вернуться в Москву, воскликнула: «Ведь мы провели в Горьком почти две Великих Отечественных!» Между прочим, плакать им все-таки пришлось. В Горьком они испытали безмерное горе разлуки. Сахаров объявил голодовку и его насильно увезли в больницу, где страшно мучили. Они не виделись пять месяцев, не знали ничего друг о друге. И наконец встреча. Боннэр так описывает ее: «Медсестра ведет Андрюшу. Он в том же светлом пальто, в каком его увезли тогда, в начале мая, в больницу из прокуратуры, в своем беретике, не похудевший, скорее, одутловатый. Мы обнялись, и Андрюша заплакал, и я тоже».
Но это все будет потом, потом, до этой драматической минуты надо еще дожить. А пока персональный самолет производит посадку в Горьком. Ссыльных препровождают в микроавтобус — окна, само собой, зашторены — и он трогается. «Куда вы нас везете?» — спрашивает Боннэр. «Увидите!», — с ухмылкой сообщает чекист. Она пытается выглянуть наружу, но сопровождение грубо пресекает попытку отодвинуть шторку.
Город поразил их тоской и унынием.
Доставляют их в кирпичный дом по адресу: проспект Гагарина, 214. Я был в той квартире. По советским понятиям, просторно — четыре комнаты. До Сахаровых здесь останавливался командированный люд. Казенная мебель, подобными безликими кроватями, шкафами, диванами обставлены гостиницы. В серванте вычурный чайный сервиз. Не жилище, а временное пристанище, тоскливое и неуютное. С каким отчаянием вырвалось однажды у Елены Георгиевны: «Моя мечта — дом мой, для меня, для моей семьи, то есть для нас с мужем, — неосуществима, как неосуществим рай на земле».
Ссыльные прошлись по квартире, она им не понравилась: холодная, неприятная. Холодная — в прямом смысле слова: температура не выше 12 градусов, хорошо, что взяли теплые пледы. Позже они покупали детские бумажные пеленки и затыкали ими дырки в рамах.
Включили транзисторный приемник, сообщения о высылке — ведущая тема голосов. Передавались протесты общественных деятелей, писателей, интеллектуалов, с мощным осуждением выступили ученые — зарубежные. Первое время глушилок не было, недели полторы слышимость была изумительной.
Попили чай — и легли спать. Как они привыкли — на одной кровати, тесно прижавшись друг к другу. Так закончился этот будоражащий день — 22 января 1980 года.
И опять невозможно уйти от совпадений. Газета «Горьковский рабочий», будто специально приурочив к приезду Сахарова, помещает в номере за 22 января заметку, посвященную 95-летию начала нижегородской ссылки Короленко. В заметке описывалось, как замечательно жилось писателю в Нижнем Новгороде после мучительной доли ссыльного в Якутии, как сразу же вокруг Короленко образовался круг думающих интеллигентных людей. Максим Горький именно от Короленко получил благословение на литературные занятия, и позже великий пролетарский писатель с гордостью определит: «Можно говорить об эпохе Короленко в Нижнем».
Все-таки есть в ссылке нечто почетное, встаешь в ряд знаменитых личностей — это греет и возвышает. В XIX веке ссылка была знаком отличия, кто удостаивался такой чести, тот настоящий человек. Вы посмотрите, какие в прошлом веке были ссыльные: Пушкин, Лермонтов, декабристы, Радищев, Полежаев, Шевченко, Достоевский, Короленко. Георгий Владимов возвышенно написал о ссылке Сахарова: «Сослав его в Горький без следствия и суда, без объявленного приговора и срока, применив меру из ряда вон выходящую, власть оказала ему честь, какой мог бы удостоиться разве лишь наследный принц или возможный президент». В КГБ, наверное, сильно смеялись, когда читали эти строки. А ведь — в точку! Сахаров в будущем мог стать президентом.
Михаил Левин, друг Андрея Дмитриевича с университетских времен, в связи с заметкой в «Горьковском рабочем» отчаянно надеялся: произойдет что-то похожее, к Сахарову потянется горьковская интеллигенция, прежде всего физики, ведь такая редкая, уникальная возможность — иметь в своей среде выдающегося ученого, теоретика, несравненного специалиста по прикладной физике. «Я пребывал в такой надежде некоторое время, пока не выяснилось, что она бесплодна, — печалился Левин. — Сахаровской эпохи в Горьком не было. Были горьковские годы в жизни Сахарова. И только. Это одни из самых горьких моих воспоминаний и переживаний».
Наивный Михаил Львович! Он же сам прошел в сталинские времена через бессмысленное обвинение в подготовке покушения на вождя, через ссылку. Ему было запрещено жить в столице, в конце 40-х годов он оказался в Горьком и влюбился в этот город, прижился в нем стал своим. Он-то полагал, что столичное академическое быдло (определение Левина), которое думает только о деньгах и поездках за границу, о власти и кресле — это одно, а в провинции — настоящие люди, честные и открытые, они обрадуются умному человеку и не преминут воспользоваться такой счастливой возможностью — в их городе Сахаров!.. Но люди опасались даже смотреть в сторону дома, куда насильно вселили их великого современника.
Горький на Сахарова и Боннэр произвел тягостное впечатление. Зимой в особенности — город поражён тоской и унынием. Дома на окраине, и летом далеко не приглядные, зимой становятся еще темнее, слепее, мрачнее. В воспоминаниях ссыльных супругов ни разу не упоминается нижегородский кремль, картинная галерея, а там есть что посмотреть. Тяжело Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна привыкали к навязанному месту жительства. Да и может ли понравиться место ссылки? Когда ни выглянешь из окна — натыкаешься на характерные фигуры в штатском, а стоит выйти на улицу — к тебе тут же приклеивается сопровождение. Боннэр написала подруге в Ленинград письмо, в котором поэтически описала место своего пребывания:
Из московского окна
Площадь Красная видна,
А из этого окошка
Только улица немножко,
Только мусор и г…о.
Лучше не смотреть в окно.
И гуляют топтуны —
Представители страны.
Район, где стоял их дом, возвели на месте деревни Щербинки. У Сахарова в связи с этим тоже родились стихи: